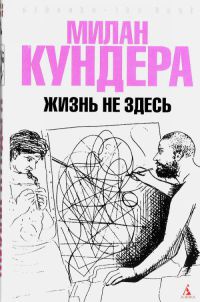Читать книгу "Нарушенные завещания - Милан Кундера"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Этот отказ Ницше от мысли, возведенной в систему, имеет иное следствие: неимоверное расширение тематики; рухнули перегородки между разными философскими дисциплинами, мешавшими увидеть реальный мир во всей его протяженности, и отныне все, свойственное человеку, может стать объектом мысли философа. Это также сближает философию с романом: впервые философ размышляет не над эпистемологией, эстетикой, этикой, не над феноменологией духа, над критикой разума и т.д., а над всем, что присуще человеку.
Историки или учителя, излагая философию Ницше, не только сокращают ее, что само собой разумеется, но искажают, превращая ее в собственную противоположность, то есть в систему. Неужели в их систематизированном Ницше еще найдется место для его размышлений о женщинах, о немцах, о Европе, о Бизе, о Гёте, о китче в стиле Гюго, об Аристофане, о легкости стиля, о скуке, об игре, о переводах, о духе послушания, о полной власти над другим и обо всех случаях психологического аспекта этой власти, об ученых и о пределах их разума, о Schauspieler, комедиантах, выставляющих себя напоказ на подмостках Истории, найдется ли еще место для тысячи психологических наблюдений, которые невозможно найти нигде больше, разве что у каких-то отдельных романистов?
Подобно Ницше, сблизившему философию с романом, Музиль сблизил роман с философией. Это сближение не означает, что Музиль в меньшей степени романист, чем другие романисты. Точно так же, как Ницше — философ не в меньшей степени, чем другие философы.
Мыслящий роман Музиля также осуществляет доселе невиданное расширение тематики; ничто из того, о чем можно размышлять, теперь не исключается из искусства романа.
Когда мне было тринадцать-четырнадцать лет, я брал уроки музыкальной композиции. Вовсе не потому, что был вундеркиндом, а из-за стыдливой деликатности моего отца. Шла война, и его друг композитор был вынужден, как еврей, носить желтую звезду; люди начали его сторониться. Мой отец, не зная, как выразить ему свою солидарность, решил попросить его в этот самый момент давать мне уроки. Тогда конфисковывали квартиры евреев, и композитор был вынужден непрерывно переезжать с мета на место, и каждый раз его новое жилище становилось все теснее. В конце концов перед его депортацией в концлагерь Терезин он оказался в маленькой квартирке, где в каждой комнате ютилось по нескольку человек. Он повсюду перевозил за собой пианино, на котором я и проигрывал свои упражнения по гармонии и полифонии, в то время как незнакомые люди вокруг нас продолжали заниматься своими делами.
От всего этого у меня лишь сохранилось восхищение перед этим человеком и три или четыре образа-воспоминания. В частности, это: провожая меня после урока, он останавливается у двери и внезапно говорит мне: «У Бетховена есть много на удивление слабых пассажей. Но именно эти слабые пассажи придают ценность сильным пассажам. Это словно лужайка, без которой мы не смогли бы любоваться растущим на ней прекрасным деревом».
Любопытная мысль. Но то, что она осталась в моей памяти, еще более любопытно. Может быть, я чувствовал себя польщенным тем, что мне довелось услышать конфиденциальное признание мэтра, секрет, великую уловку, предназначенную лишь для посвященных.
Как бы то ни было, это короткое размышление моего тогдашнего учителя всю жизнь преследовало меня (я защищал его, в конце концов я поборол его, но я никогда не усомнился в его важности); без него этот текст наверняка не был бы написан.
Но еще больше, чем размышление как таковое, мне дорог образ человека, который незадолго до своего страшного путешествия размышлял вслух перед ребенком над проблемой композиции произведения искусства.
Я много раз упоминал музыку Леоша Яначека. В Англии, в Германии ее хорошо знают. А во Франции? А в других романских странах? И что можно о ней знать? Я иду (15 февраля 1992 года) в магазин ФНАК взглянуть, что там можно найти из его сочинений.
Я сразу же нахожу Тараса Бульбу (1918) и Симфониетту (1926): оркестровые произведения его великого периода; это наиболее популярные (наиболее доступные для меломана среднего калибра) сочинения, их почти всегда помещают на один диск.
Сюита для струнного оркестра (1877), Идиллия для струнного оркестра (1878), Лашские танцы (1890). Пьесы относятся к предыстории его творчества и своей незначительностью удивляют тех, кто за подписью Яначека ищет великую музыку.
Хочу задержаться на словах «предыстория» и «великий период»:
Яначек родился в 1854 году. В том-то и парадокс. Этот великий представитель модернистской музыки — старший из последних великих романтиков: он на четыре года старше Пуччини, на шесть лет — Малера, на десять — Рихарда Штрауса. В течение долгого времени он пишет сочинения, которые из-за его аллергии на романтические излишества выделяются лишь своей явной традиционностью. Он вечно неудовлетворен, и разорванные партитуры, словно вехи, отмечают его жизненный путь; только к концу столетия он находит свой собственный стиль. В двадцатые годы его сочинения занимают место в программах концертов модернистской музыки наряду со Стравинским, Бартоком, Хиндемитом; но он на тридцать — сорок лет их старше. В юности консерватор-одиночка, в старости он становится новатором. Но он по-прежнему одинок. Поскольку, несмотря на солидарность с великими модернистами, он не такой, как они. Он пришел к своему стилю без их участия, его модернизм – иного сорта, иного происхождения, иных корней.
Я продолжаю прогулку среди стеллажей магазина ФНАК и с легкостью нахожу два квартета (1924, 1928): это вершина творчества Яначека; здесь в совершенстве сконцентрирован весь его экспрессионизм. Пять записей, все великолепные. Жаль, однако, что мне не удалось найти (я уже давно и безрезультатно ищу ее на компакт-диске) самое аутентичное исполнение его квартетов (оставшееся непревзойденным), в исполнении Квартета Яначека (старая пластинка Супрафон 50556; премия Академии Шарля-Кро, Preis der Deutschen Schallplatten-kritik).
Я задерживаюсь на слове «экспрессионизм»:
Хотя Яначек и не причислял себя к таковым, на самом деле он единственный великий композитор, к которому можно было бы применить этот термин целиком и в его буквальном значении: для него все экспрессия, и ни единая нота не имеет права на существование, если она не есть экспрессия. Отсюда полное отсутствие того, что является простой «техникой»: переходов, развития, механики контрапунктического заполнения, рутины оркестровки (и наоборот, тяготение к нетрадиционным ансамблям, составленным из нескольких солирующих инструментов) и т.д. В результате, если каждая нота — экспрессия, исполнитель должен сделать так, чтобы каждая нота (не только мотив, но каждая нота в этом мотиве) обладала максимальной экспрессивной ясностью. Еще одно уточнение: немецкий экспрессионизм отличается предпочтительным отношением к избыточным душевным состояниям, бреду, безумию. То, что я называю экспрессионизмом, у Яначека не имеет ничего общего с этой одномерностью: это богатейший веер эмоций, противопоставление без переходов, тесное до головокружения, противопоставление нежности и грубости, ярости и успокоения.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Нарушенные завещания - Милан Кундера», после закрытия браузера.