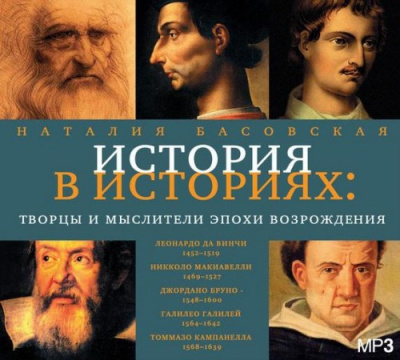Читать книгу "Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи - Наталья Константиновна Бонецкая"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ограничимся лишь немногими словами по поводу дальнейших этапов духовного пути Ницше, последовавших за «великим разрывом» 1876 г. В 1886 г., за три года до полного помрачения, он, прельщенный, думал, что почти достиг «великого здоровья». Нет, не одни муки от неименуемой психосоматической болезни стали его уделом, как утверждал Шестов: Ницше испытывал и периоды утонченного счастья, некоей радостной отрешенности от «да» и «нет», любви и ненависти; он переживал экстазы – блаженные «птичьи полеты в холодные высоты», – высочайшее же удовлетворение приносила ему вера в выздоровление… Главный бытийственный результат «великого разрыва» верно обозначен в «Воспоминаниях» Евгении Герцык: «человек» (т. е. сам Ницше) «повис над бездной» – через акт отречения его Я утратило связь с Богом, лишилось опоры на духовные ценности, оказавшись беззащитным перед обитателями «бездны». В терминах самого Ницше, его Я, избрав индивидуалистическое самостояние, должно было теперь научиться жить исключительно в своей собственной «перспективе»: ведь оно возжелало сделаться центром мира. «Центр» этот мыслился Ницше весьма своеобразно – весь прочий мир располагался под ним: «Наиболее желательным состоянием казалось мне “свободное витание над людьми, обычаями, законами и привычными оценками”»[183]. Позицию мегаломана, каким он сделался как бы в одночасье, Ницше сравнивает с существованием птицы: «…некая птичья свобода и птичья перспектива, нечто вроде любопытства и презрения одновременно» – вот указание на победу гордыни в его душе. Так возникла одна из «масок» Ницше – принц Фогельфрай (т. е. свободная птица), которого даже апологет и симпатизант Ницше, К. Свасьян, именует «бесноватым»…[184] Как видим, «подполье» Ницше было специфическим и предполагало экстатические «полеты». Феномен Ницше, «мученика познания» (К. Свасьян), гораздо сложнее, нежели «подпольный человек» Достоевского.
Книга Шестова о Достоевском и Ницше выстроена таким образом, словно ее автор пытается проникнуть в тайну мировоззренческого перелома – некоего потрясающего события в жизни его героев, оказывающегося тем самым то ли ее завязкой, то ли сюжетной основой. Но если Ницше оставил описание случившегося с ним (в предисловии к «Человеческому, слишком человеческому» и соответствующих черновиках), то Достоевский уклонился от аналогичного свидетельства о «перерождении» его убеждений. Шестов хочет реконструировать опыт Достоевского, сделав допущение о принципиальном совпадении его с «великим разрывом» Ницше. Очевидно, что Достоевский «шестовизируется» при этом еще в большей степени, нежели Ницше. Ведь «перерождение убеждений» Достоевского после пребывания на эшафоте и десятилетней каторги, будучи разрывом с социалистическими идеями, означало поворот к христианству, тогда как Ницше переориентировался на антихриста. Опять-таки в угоду своим целям Шестов трактует ситуацию «с точностью наоборот»! Имея это в виду, будем понимать ниже под «Достоевским» Достоевского «шестовизированного».
Итак, согласно Шестову, «Записки из подполья» Достоевского – первое свидетельство «перерождения убеждений» писателя – стали плодом его отречения от идеалов социализма и гуманизма. Само событие отречения, реконструируемое им, Шестов описывает почти теми же самыми словами, какие применяет для осмысления «великого разрыва» Ницше: «В его душе проснулось нечто стихийное, безобразное и страшное – но такое, с чем совладать было ему не по силам» (с. 49). Причину мировоззренческого переворота, совершившегося с Достоевским, Шестов усматривает в том, что в Сибири писатель проникся «философией» каторжников, подобно тому как некогда всей душой принял идеи Белинского. В результате, по Шестову, Достоевский признал «нравственное величие преступника» и даже стал завидовать этому величию (с. 84). «Безобразное и страшное», проснувшееся в его душе, – это «бешеные звери, которые называются иностранными словами скептицизм и пессимизм» (с. 68). Победить это «подполье» общими местами идеализма уже не удавалось. Так Достоевский пришел к «реабилитации прав подпольного человека» (с. 105) – к признанию справедливости и, если угодно, праведности тезиса героя «Записок…» о том, что пусть весь мир провалится, только бы ему чай пить. Тем самым Достоевский обрел «смелость переименовать в добро то, что мы в себе считали злом» (с. 166), – совершил переоценку фундаментальных ценностей человеческого существования.
Шестов, по сути, присоединяется к мнению о Достоевском народника Н. К. Михайловского, утверждавшего, что Достоевский отнюдь «не был… жрецом гуманности», а был «подпольным», «жестоким» человеком (с. 72). Однако автор «Достоевского и Нитше» дает этому тезису иную оценку, нежели гуманист Михайловский. Достоевский, полагает Шестов, отрекается от обыденной оценки добра и зла, подчиняя эти общие понятия интересу конкретной личности. На взгляд Шестова, Достоевский создал галерею образов «преступников без преступления», ибо на самом деле ни в чем не виноват Раскольников, прав также в своем бунте Иван Карамазов, убежденный в истинности своей «идеи», и т. д. (эту шестовскую интуицию впоследствии своеобразно разовьет М. Бахтин в своей концепции «диалогической поэтики» Достоевского). Шестов хочет вывести Достоевского «по ту сторону добра и зла», отождествив его этику с этикой Ницше; ради этого тезис Ивана «для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит», – тезис чисто шестовский[185], – он делает программным для самого Достоевского, окончательно «шестовизируя» и «ницшезируя» русского писателя.
Однако покинуть сферу добра и зла Шестову не удалось. Книги Шестова о Толстом и Ницше и о Достоевском и Ницше (этот ранний диптих является этигескими пролегоменами к будущей шестовской «философии веры») оказались на деле обличением добра и апологией зла. В первой из них доказывается, что абстрактное добро несет ужасы маленьким людям, верящим в него; во второй на ценностный пьедестал возносятся подпольный человек и «каторжники» вместе с «жестокими» Ницше и Достоевским. Софистика Шестова здесь логически развернута в сторону зла, превозносит зло, – и это все же смысловой жест, а не заостряющая мысль риторика. «В действительности, когда грешный человек пытается стать по ту сторону добра и зла, отвергнуть разум и добро, <…> он остается “по сю сторону”, остается в зле»[186]: с этим суждением Бердяева об этическом выборе Шестова, закамуфлированном нагромождением апорий, трудно не согласиться.
Из опыта «подполья» – «страшного одиночества», куда погружается душа, признавшая ложью «все красивые априори», рождается «философия трагедии» (с. 71). Таково одно из первых именований собственной шестовской философии, предваряющее вариант более поздний – «философию веры»: мысль Шестова впоследствии из области этики выйдет в сферу религии. «Философии трагедии» противостоит у Шестова «философия обыденности» – философия
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи - Наталья Константиновна Бонецкая», после закрытия браузера.