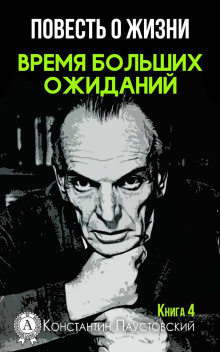Читать книгу "Повесть о жизни - Константин Георгиевич Паустовский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лишенный возможности печататься, он выдумывал для своих близких людей удивительные рассказы – и грустные и шутливые. Он рассказывал их дома, за чайным столом.
К сожалению, только небольшая часть этих рассказов сохранилась в памяти. Большинство их забылось или, выражаясь старомодно, кануло в Лету.
В детстве я очень ясно представлял себе эту Лету – медленную подземную реку с черной водой. В ней очень долго и безвозвратно тонули, как будто угасали, люди и даже человеческие голоса.
Я помню один такой рассказ.
Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные загадочные письма и подписывается: «Тарзан».
Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: «Развели в органах тунеядцев, одного человека словить не можете!»
Наконец Булгаков найден и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь:
– Это вы мне эти письма пишете?
– Да, я, Иосиф Виссарионович.
Молчание.
– А что такое, Иосиф Виссарионович? – спрашивает обеспокоенный Булгаков.
– Да ничего. Интересно пишете.
Молчание.
– Так, значит, это вы – Булгаков?
– Да, это я, Иосиф Виссарионович.
– Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай нехорошо! Совсем нехорошо!
– Да так… Заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.
Сталин поворачивается к наркому снабжения:
– Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут? Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть. В габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь какие надел сапоги! Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!
И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:
– Понимаешь, Миша, все кричат – гениальный, гениальный. А не с кем даже коньяку выпить!
Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей, идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен и даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя.
Однажды Булгаков приходит к Сталину усталый, унылый.
– Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?
– Да вот пьесу написал.
– Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?
– Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.
– А где бы ты хотел поставить?
– Да конечно в МХАТе, Иосиф Виссарионович.
– Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись.
Сталин берет телефонную трубку.
– Барышня! А барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!
Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.
– Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Это кто? МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте! Где директор? Как? Умер? Только что? Скажи пожалуйста, какой пошел нервный народ!
Проводы учебного корабля
Норвежский парусный барк с железным корпусом – прекрасный океанский корабль – сел на камни во время Первой мировой войны в горле Белого моря.
Русское правительство купило этот корабль у Норвегии. После революции ему дали название «Товарищ», превратили в учебный корабль торгового флота и летом 1924 года отправили из Ленинграда в кругосветное плавание.
В редакции «На вахте» началось волнение – кого послать в Ленинград корреспондентом на проводы «Товарища»?
Это был первый советский парусный корабль, уходивший в такое заманчивое плавание. Я, конечно, никак не надеялся попасть на проводы «Товарища». Я понимал, что право на это имеют прежде всего наши сотрудники-моряки Новиков-Прибой и Зузенко.
Женька Иванов устроил по этому поводу совещание. На нем неожиданно появился Александр Грин.
Я видел его тогда в первый и в последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве появился капитан «Летучего голландца» или сам Стивенсон.
Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами – темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом черном костюме, блестевшем от старости, и в черной шляпе. В то время никто шляп не носил.
Грин сел за стол и положил на него руки – жилистые сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки, – вены сразу опали.
– Ну вот, – сказал он глуховатым и ровным голосом, – я напишу вам рассказ, если вы дадите мне, конечно, немного деньжат. Аванс. Понимаете? Положение у меня безусловно трагическое. Мне надо сейчас же уехать к себе в Феодосию.
– Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Петроград на проводы «Товарища»? – спросил его Женька Иванов.
– Нет! – твердо ответил Грин. – Я болею. Мне нужно совсем немного, самую малую толику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду. От одного запаха кофе и стука бильярдных шаров. От одного пароходного дыма. А здесь я пропадаю.
Женька Иванов тотчас же распорядился выписать Грину аванс.
Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым своим воображением, какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца.
И какие тесные, шумные, певучие и пахучие портовые города, залитые удивительным солнцем, превращались в нагромождение удивительных сказок и уходили вдаль, как сон, как звук затихающих женских шагов, как опьяняющее дыхание открытых только им, Грином, благословенных и цветущих стран.
Мысли у меня метались и путались в голове, я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдет.
– Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович? – спросил Грина Новиков-Прибой.
– Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией, за Сарыголом, – усмехнувшись, ответил Грин. – Для пропитания.
Нельзя было понять, – шутит он или говорит серьезно.
Он встал, попрощался и вышел, прямой и строгий. Он ушел навсегда, и я больше никогда не видел его. Я только думал и писал о нем, сознавая, что это слишком малая дань моей благодарности Грину за тот щедрый подарок, какой он бескорыстно оставил всем мечтателям и поэтам.
– Большой
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Повесть о жизни - Константин Георгиевич Паустовский», после закрытия браузера.