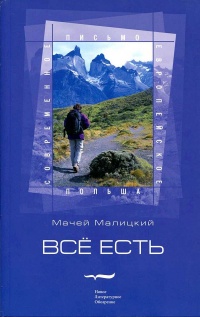Читать книгу "Великолепие жизни - Михаэль Кумпфмюллер"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Когда Макс его привозит, они, конечно, все в сборе: Оттла, Элли, Валли, родители, прислуга и дядя. Прежде всего, пожалуй, со стороны отца он ощущает волны разочарования и горечи, какое он наказание для семьи, все, конечно, встревожены, но и раздосадованы, Берлин был только переводом времени и денег, а теперь вот можно полюбоваться, чем это кончилось. По счастью, рядом Макс, он всегда действовал на родителей успокаивающе, они и говорят сейчас практически только с ним, спрашивают, как доехали, останется ли он поужинать, от чего Макс учтиво и многословно отказывается. Ему пора, поздно уже, да и Франца надо срочно в постель уложить, — и только тут, словно очнувшись от спячки, они все, как по команде, кидаются за ним ухаживать, дядя несет багаж в его новую комнату, прислуга заранее извиняется за неудобства этой комнаты и только Оттла ласково гладит его по руке и спрашивает, как Дора.
Вот уж он не думал, что когда-нибудь снова вернется в Прагу. Этого возвращения он всегда опасался, но в нынешних обстоятельствах ему, пожалуй, уже не до того. Он рад, конечно, что Дора его сейчас не видит, в этой жалкой, тесной каморке прислуги, где он примостился за крохотным столиком и ей пишет, в этой тишине, ибо вокруг все странно тихо, словно все домашние затаились и только и ждут, когда же он в Давос уедет.
Дольше нескольких часов он, к сожалению, не выдерживает. Ко второй половине дня, еще прежде, чем снова лечь, он обычно уже почти совсем обессиливает, его изматывает неотступный жар, утомляют, хотя и радуют, каждодневные визиты Макса, бесконечные разговоры об Эмми, которая Макса бросила, о судьбе его, Макса, брака. Он пишет директору санатория в Давосе и дяде, который собрался его туда сопровождать, что, к сожалению, в данный момент выехать не сможет, ибо в связи с непрекращающейся температурой вынужден постоянно находиться в постели. Доре он пишет: с постели я конечно же поднимаюсь, хотя всего на несколько часов, как это было и в Берлине. Стороннему взгляду может показаться, что и вся его здешняя жизнь точно такая же, как в Берлине, хотя если получше вглядеться, то здесь, без тебя, это полная ей противоположность. Берлин — это был рай, пишет он. И как, ради всего святого, я мог позволить себя оттуда изгнать? Дора тоже ему написала, сразу же, еще на скамейке вокзала, торопливую открытку, вслед за которой до вечера в Прагу полетят еще две, уже гораздо более спокойные, внешне собранные, но только внешне, потому что за словами, между строк, прячется волнение, словно она пишет и одновременно молится.
На следующий день он записывает последние фразы своего рассказа, записывает легко, словно они давно уже ему известны, как нечто, когда-то услышанное, а потом неспешно положенное на бумагу, как мелодия, которую кто-то насвистывает в переулке, давая всем остальным прохожим безоговорочное право насвистывать ее вслед за ним по дороге домой. Среди его историй это одна из самых длинных. Он хорошо понимает: это нечто вроде его последнего слова о себе самом и своей работе, о его в общем и целом неудавшейся попытке стать писателем, о тщете искусства, неразрывно связанной с тщетою самой жизни. А к вечеру у него вдруг пропадает голос. То есть вообще-то он просто охрип, хотя, может, и не только, он срывается на писк, почти как Жозефина, и ему представляется, что некоторым образом это даже знаменательно. За ужином это не остается незамеченным, мать спрашивает, что с ним, но с ним ничего, и действительно наутро голос, похоже, возвращается как ни в чем не бывало.
2
С тех пор как он уехал, Дора большую часто времени проводит в Народном доме, ухаживает за новыми детишками, переставляет вместе с Паулем в столовой столы и стулья, а домой, на Хайдештрассе, возвращается как можно позже. Пауль находит, что она изменилась. Повзрослела, спокойнее стала, так ему кажется, а ведь после Мюрица всего полгода прошло. В один из первых вечеров, в кафе, она долго ему рассказывала про Давос, про свои тревоги, про то, как ей его недостает. Пауль ведь не знал, что она в Давос собралась. Она, кстати, до сих пор так и не удосужилась взглянуть, где этот Давос вообще находится, и признается, что ей страшно, уж очень скверно выглядел Франц при отъезде. Но кое о чем она Паулю не рассказывает. Как в первый вечер, в надежде, что Франц что-нибудь позабыл, она обшаривала обе комнаты, снова и снова. И разве может она признаться, что целует его письма? В первое же утро после того жуткого расставания она сразу побежала к почтовому ящику, может, он еще в поезде что-нибудь ей написал, но в ящике ничего не было. И вообще, когда она проснулась, все было ужасно, когда к завтраку на стол накрывала, на себя и на него, две чашки, два прибора, и вдруг поняла, что голоса его не помнит, но потом вспомнила, и даже смех, если напрячься немного. Летом, тоже после его отъезда, она до последних мелочей все про него помнила, но в этот раз она вообще сама не своя, кошелек недавно дома забыла, а когда телефон внизу в прихожей звонит, она пугается и то и дело, иной раз в самое немыслимое время, бегает к почтовому ящику.
Первое письмо от него еще длинное. Он пишет, как доехал, обо всех этих дремотных часах, и как его встретили родители, которых он поначалу хвалит, чтобы тут же пожаловаться — как мало они могут сказать друг другу. По большей части она, пожалуй, все это видит. Оттлу хорошо видит, и Элли, и мать, надо надеяться, все они понимают, что ему нужен покой. Каждый день приходит Макс, один раз был Роберт, он передает ей привет. Рассказ он тем временем закончил, а вот температура не спадает, и голос у него теперь прокуренный, ей придется привыкать. Он пишет, что она ему снится, считай что каждую ночь, хотя наутро от большинства снов лишь смутные воспоминания. Но она с ним, стережет его сон, когда он спит, потому что иной раз он до утра заснуть не может. Весна и здесь, в Праге она чувствуется не меньше, чем в Берлине. Мать каждое утро читает ему все, что в газетах про Берлин пишут. Оттла тоже передает ей привет, самый сердечный и обстоятельный. Уже скоро, пишет он. Надеюсь, мой вид тебя не испугает. Не стоит ли спросить госпожу Буссе, может, кое какие вещи можно оставить у нее, если ничего другого не найдется.
О госпоже Буссе она и правда как-то не подумала. Поначалу они вообще почти не общались, но теперь выясняется, что она очень даже любезна и проявляет участие. Как раз вчера она сама постучала в дверь справиться о Франце. За квартиру до конца марта уплачено, но в том, что касается Дориного отъезда, то тут особой спешки нет, пусть она из-за этого не волнуется, а уж тем более насчет вещей, ведь есть подвал, дом большой, места полно, она, к сожалению, до сих пор никак к этой пустоте не привыкнет. Дора пригласила ее зайти на чашку чая, теперь они сидят, говорят о мужчинах, которых нет рядом, ужасная эта испанка, миллионы людей покосила, в последние месяцы войны и в первую послевоенную зиму. На пятые сутки в восемь утра он умер, рассказывает госпожа Буссе, а Дора замечает, что Франц тоже переболел этим гриппом и долгое время неясно было, выживет ли. Незаметно разговор переходит на писательство, ведь это вторая общность обоих мужчин, хотя Дора ни строки Буссе не читала, а госпожа Буссе — ни строчки Франца. В порыве сочувствия госпожа Буссе даже называет Дору «бедной деточкой», но потом все-таки интересуется, как так вышло, что они с Францем не в браке; пока оба живы, это в общем-то все равно, но вот она, овдовев, теперь смотрит на эти вещи совсем иначе. Или вы брак вообще отвергаете? Мой муж был очень строг в этом вопросе, по счастью, он уже не узнает, до чего изменились времена и нравы. В вас есть что-то очень еврейское, замечает она, ну да, нос, к тому же Дора просто очень красива, добавляет она, еврейки вообще все-таки очень красивые.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Великолепие жизни - Михаэль Кумпфмюллер», после закрытия браузера.