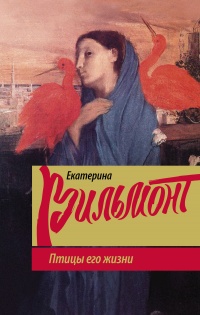Читать книгу "Мост через Лету - Юрий Гальперин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
практика прозы
В бессоннице не было ни будущего, ни прошлого — мучительное желание заснуть, душная подушка и пугающий скрип матраца, когда ворочаешься. Бесполезно искать удобную позу: клубком, на боку, разметав руки, — ее нет. Ничего нет, кроме желания забыться. Но уснуть можно было, только забыв о желании.
Перед рассветом мне это удавалось.
Утром не хотелось вставать. Часами я лежал на постели, легко голодный. А когда подымался, глаза оставались сонными. Врожденная лень получала еще одного союзника. Уверенность, что сегодня опять ничего толкового не сделаю, крепла с утра, и к вечеру мысли о поражении добивали меня. На ночь глядя, устраиваясь на диване с книжкой, чтобы свет лампы падал удобно, я вдруг вспоминал о бессоннице, и страх комкал желание читать. Предчувствие, что многое придется менять в этой жизни, — дальше так продолжаться не могло, — обесценивало предварительные решения. А чувство бессилия, сознание невозможности встать над собой (просто взять себя в руки и встать, прямо сейчас) замутняло ум. И смятения этого хватало до утра, пока я, наконец, не забывался перед рассветом.
Дважды я ходил домой к девушке, которую встретил накануне. Мы и знакомы-то были едва. День, даже меньше: вечер, ночь провели в обществе случайных людей. Но эта короткая наша близость — именно она и стала причиной грустных происшествий, предопределила то, что стряслось впоследствии.
Мы расстались. Не успели проститься. Я был пьян и толком ничего не помнил: не восстановимы подробности. Мучился. Неопределенность пугала. А знакомой моей не было дома. Вообще никого у них не было дома, даже соседей. Дверь квартиры не отпирали ни на звонок, ни на стук. И я всерьез разволновался: а ну как если… Но под щебет старых часов постепенно успокоился.
Организованная жестокость литературной работы усыпляет волнение плоти, подавляет паническое понимание непоправимости поступков, проступков, сомнительных подвигов, делает совесть покладистой. Но главное, все это время я был один, оставался совсем один. И обязан признаться: не знаю более светлого ощущения, нежели незамутненное одиночество, когда идущее изнутри, такое органичное, как мне казалось, чувство отъединенности от мира совпадало с действительной отъединенностью. Независимо, закрывал я на это глаза или отказывался верить, отъединенность, как стеклянная стена, уже давно стояла между мной и миром, пока я, прочувствовав ее до тонкой боли острого предела ужаса, растворяясь в этом ужасе, не примирился с ней. Вот тогда преграда — пропасть, трещина или стена (как вам будет угодно), — она исчезла, для того, наверное, чтобы отъединенный мир мог соединиться с душой. Уж не знаю, как все происходит: космос впускает душу человека или душа сама в боли открывается миру? Стоит ли искать объяснения — истинное знание молчанием оберегает источник, из которого снисходит так называемая благодать.
Однако в те душные августовские ночи, при всей органичности моего одиночества, благодать ко мне, увы, не спускалась.
Господь в прозрачных небесах уснул, а я корчился в предсонных грезах, еще не подозревая, что нынешний август для меня никогда не кончится, если можно вот так, опять и опять, склоняться над лицом девушки, упавшей на асфальт у разгромленной витрины магазина, куда въехало покореженное такси, над лицом девушки с остро запрокинутым подбородком среди брызг автомобильного стекла, в четыре часа, на исходе светлой ночи, склоняться к нежно бледному овалу, где в изящной близости от виска красовалась чистая ранка без крови, странно знакомая по давним снам или кино (этого кадра в «Колдунье» не было), — тянуться в ожидании, что вот она, пересиливая себя, улыбнется (если можно узнать повадки другого, вплоть до умения просыпаться с улыбкой, за короткие семь часов, что мы были знакомы!). А над лицом неслучившейся ее улыбки кружился запоздалый пух тополей, в незакрытых глазах отражалось ночное солнечное небо августа, длившего тепло свое для двух бедных homines, не зарегистрированных ни в одной клинике мира, потому что этот сюрконкретный мир для любовников, все равно что единая глобальная лечебница для душевнобольных. И если смерть лучшее лекарство, то пусть лучше она, чем больно и сильно действующее, но безнадежное средство совести сна: зрелище запрокинутого лица и щеки, почему-то испачканной кровью, почему-то оказавшейся на моих руках.
Я просыпался, вскакивал с неожиданной и единственной мыслью, что вот я здесь, и ночь, и я не там, где был… И слава Богу.
Должно быть, меня мучили кошмары, потому что пробуждение всякий раз было радостью. Но только в первом ощущении. А затем мысль о бессоннице испугом перечеркивала ночь. Я смотрел на циферблат: предстояло два, три часа пытки, незаметное, но тяжелое погружение, как в замедленном падении, как в удушье. И… сквозь бред яростный звон будильника.
Два, три часа без сна каждую ночь. Я ждал их и смирился. И не мог привыкнуть.
Но странно: днем, когда люди и дела не отпускали, раздергивали и не оставляли возможности заглянуть в себя, я неожиданно вспоминал, почти злорадно, — нет, даже не думая, а как бы смутно предвкушая, — темноту и слабый звон стекол в оконном переплете, потрескивание паркета под тяжестью стеллажа. Я вяло общался с окружающими. Но сами собой разрешались подступившие к горлу проблемы. Сам по себе выкраивался злополучный сценарий. Режиссер и редакторы вертели его, обсуждали, пытались выстроить событийный ряд. Они с аппетитом набрасывались на вымученный текст, старались сделать из него конфетку. Вокруг, словно бикфордов шнур, тлели страсти, а я принимал эту жизнь, как таблетки, равнодушно и регулярно. Мне не совестно было наблюдать. И не имело значения, что решат. Казалось, не важно, решат именно так или иначе. И кто что скажет, а потом сделает, и сделает ли, и почему. Все это в обыкновенном своем отъединении я пропускал мимо, очень внешне и беспамятно воспринимая, и улыбался грядущей ночи и бессоннице — верной жене. Я улыбался с утра до вечера бессонными глазами, а люди думали — я улыбаюсь им.
Косвенной причиной напряга была работа. Я делал ее для телевидения. Редакция надумала поставить спектакль о детях-героях. Но представления редакторов о детском героизме не вязались с моими представлениями, а точнее, с отсутствием представлений. Для меня сам факт, что ребенок живет и смеется, тянется к свету, как цветок на мусорной свалке, был самоценным актом неосознанного героизма. Кроме того, я не сомневался: свет, столь необходимый ему для роста, непременно убьет его.
Редакторы думали иначе. И похоже было, мы друг друга недопонимали. Спорить — значило потерять заработок. А им не хотелось искать другого исполнителя, сроки поджимали. В конце концов, злополучную концепцию с некоторой натяжкой я мог бы характеризовать двойным и, простите, неточным эпиграфом: великие дела требуют великой жертвы, или чего стоит идея, ради воплощения которой требуется слеза ребенка? Не захлебнется ли в этой слезинке сама идея? И я писал: по сюжету дети совершали подвиги, оговоренные заказчиками, и… неизменно умирали.
К финалу громоздилась над прекрасной идеей гора трупов — двенадцать мертвых (больше, чем в «Макбете»?). Потом, по ходу дела, редакционная коллегия четырех юных коммунаров воскресила, но восемь остались лежать: гибель их была санкционирована худсоветом. Там по-своему понимали цену идеям и свершениям. Я поставил точку. Мутило.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мост через Лету - Юрий Гальперин», после закрытия браузера.