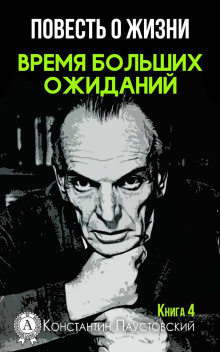Читать книгу "Повесть о жизни - Константин Георгиевич Паустовский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– А кто таков? – спросил отец Петр. Он устал, и руки у него, когда он снимал епитрахиль, сильно тряслись.
– Портной из Сторожилова.
– Молод.
– Да так… годов пятьдесят, не боле.
– Человек-то хороший?
– А шут его знает. Обыкновенный. Закладывает маленько. А вот лицом вроде не вышел. Рябой. Да не квас же Лукерье пить с его ряшки. Правда, вдовец. Двое ребят на шее.
– Полюбовно выходит?
– Да господи! – вскричал Никифор. – Мне-то, сам понимаешь, жалко ее портить. Одно соображение, – при заработке он. Государственный портной. Моя старуха прямо Лукерью зубами грызет: выходи да выходи. Она у меня знаешь какая, старуха. Зрак у нее завидный на все.
– Да уж знаю, – вяло согласился отец Петр. – Дело ваше, родительское.
Мы спустились с паперти. Отец Петр брел, опираясь на посошок.
Снова вдали в темном облаке мигнул бледный свет.
– Как вы думаете, – спросил я отца Петра, – Луша любит его или нет?
– Какое там – любит! – с сердцем ответил отец Петр. – Да все равно, пора выходить. Дело крестьянское.
Отец Петр помолчал и заговорил, что скоро начнут убирать хлеб. Из Рязани, сказывают, придут новые советские косилки. Они весь клин до самого Стенькина уберут, сказывают, за один день. Какие только чудеса дает Бог увидеть на свете!
В Екимовке работали почти одни женщины. Мужчины уходили на заработки в соседние города – Михайлов, Рязань, Пронск, Коломну, в самую Москву. Они приезжали в Екимовку только в пору горячих полевых работ. Кое-кто привозил семьям гостинцы. После побывки мужей женщины ходили в новых баретках, а ребята с утра до вечера дудели в свистульки и верещали трещотками.
Работа для женщин была непосильной. После революции наделы выросли, помещичьи и монастырские земли отошли к крестьянам, и управиться со всей этой землей было трудно. Машин в то время почти не водилось. Хлеб и сено убирали вручную.
Всей сельской жизнью управлял комитет бедноты. Ему беспрекословно подчинялись. Но все же полагалось ругаться с председателем комитета, бывшим солдатом по прозвищу «Один момент». Для него не существовало трудностей, и любое дело он решал быстро, приговаривая: «Это мы – мигом! Один момент!»
Прощание мое с деревней затянулось. Я медлил возвращаться в Москву, боясь неизвестности.
Но все же надо было в конце концов уезжать.
До Рязани ехала со мной Луша, – мать послала ее в город купить марли на подвенечную фату.
До полустанка Стенькино мы шли с Лушей полями и всю дорогу молчали. Поверх линялого ситцевого сарафана Луша надела тесную черную жакетку, русые косы подвязала белой косынкой и шла, почти не подымая глаз от смущения.
По небу однообразно тянулись синеватые холодные тучи. Луша задевала подолом подсохшие по осени травы. Только цикорий и дикая рябинка – желтая, как горчица, – еще не увядали и безмятежно и ярко дожидались ненастья.
Я старался запомнить все: каждый сжатый колос, блестевший слюдой на стерне, каждый короткий взгляд Луши – вопросительный и несмелый. Мне казалось, что она хочет спросить меня о чем-то, но не решается. И я, признаться, был рад, что она ни о чем меня не спрашивает.
О чем она могла спросить? Выходить ли ей замуж? Я бы начал ее отговаривать и наговорил бы, наверное, много такого, чего бы она не поняла. А если бы и поняла, то испугалась.
В этой простой девушке с шершавыми маленькими руками, в ее стремительной улыбке, в наклоне ее лица – покорном и нежном – было столько неясного обещания любви для кого-то еще неизвестного, но совсем не для того, за кого ее выдавали, что идти с ней рядом было и грустно и радостно. Всю дорогу мне почему-то хотелось заботиться о Луше, прикрывать ее от резкого ветра, дувшего в спину. Чем дальше мы шли, тем она все чаще поправляла под косынкой светлый локон.
В теплушке мы сели на дощатые нары. Знакомые поля нехотя поползли мимо. Вагоны погромыхивали на стыках. Мальчишка в новом картузе пронзительно свистел на губной гармонике.
Я занозил ладонь о неструганую доску нар. Луша испугалась. Она осторожно вытащила занозу и совершенно по-детски зализала ранку языком.
Расстались мы в Рязани на товарной станции. Все пути были засыпаны шелухой от подсолнухов. Ходили, матерясь, замасленные кочегары. В липах у переезда орали галки.
Я пожал маленькую твердую руку, и Луша ушла не оглянувшись. Но, уходя, она все время, как и в полях, нервно поправляла косынку на растрепавшихся косах.
Я хотел окликнуть ее, но не окликнул. Потом я долго ждал поезда на Москву и курил дешевые пересохшие папиросы.
Много лет спустя я еще раз увидел Лушу, – ее лицо и всю ее, похожую на стройную ветку. Это было страшно далеко от Рязани, в Северной Италии, в цветущей долине Аосты, замкнутой снеговыми вершинами Альп.
Луша стояла на высоком каменном постаменте у перекрестка дорог, чуть склонившись и глядя с улыбкой на цветы, которые положил кто-то к ее ногам.
Неизвестный скульптор, вырезавший эту мадонну из дерева, чуть прокрасил алой краской ее щеки. У мадонны был тот же застенчивый румянец, какой я часто видел у Луши.
Ветер с гор дул ей в глаза, колыхал платье. У нее не было на руках младенца. Она была еще непорочна. И эта прелесть непорочности делала итальянскую мадонну подругой крестьянской девушки Луши из села Екимовка Рязанской области.
«Четвертая полоса»
После возвращения из Екимовки я долго бродил по разным московским редакциям в поисках работы.
Однажды я встретил в редакции «Гудка» Виктора Шкловского. Он остановился передо мной и сердито сказал:
– Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться!
– У меня нет письменного стола.
– Тогда к кухонному! – крикнул он и исчез в соседней комнате.
Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, наугад. Мы с ним не были еще знакомы.
В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве – сотрудники «Гудка» Ильф, Олеша, Михаил Булгаков и Гехт. Склонившись над столами и посмеиваясь, они быстро писали на узких полосках газетной бумаги.
Редакционная эта комната называлась странно: «Четвертая полоса». В простенке висела ядовитая стенная газета «Вопли и сопли».
В этой комнате готовили последнюю, четвертую полосу (страницу) газеты «Гудок». На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма.
Сотрудники «Четвертой полосы» делали из каждого письма короткий и
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Повесть о жизни - Константин Георгиевич Паустовский», после закрытия браузера.