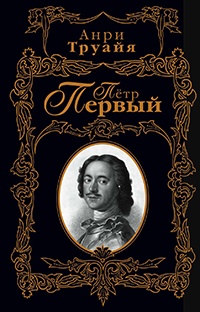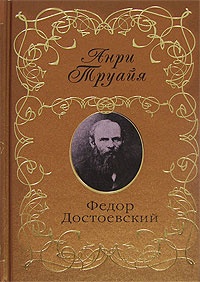Читать книгу "Иван Тургенев - Анри Труайя"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вскоре друзья маленькой компании решили устраивать ежемесячно интеллектуальные встречи за добрым столом. Они получили название «обедов у Флобера», или «обедов пяти освистанных авторов», так как каждый из участников считал, что хотя бы раз потерпел неудачу в театре. С Тургеневым этого, правда, не случалось, но, чтобы не разочаровать друзей, он поклялся, что тоже был освистан. Встречались то у Адольфа и Пеле, за Оперой, то в известной своей чесночной похлебкой таверне рядом с Комической оперой, то у Вуазена. Каждый считал себя гурманом, однако вкусы были разными. Флобер обожал руанских уток, приготовленных на пару, Эдмон де Гонкур находил изысканным заказывать варенье из имбиря. Золя страстно любил морских ежей и устриц, Тургенев ел с удовольствием икру. «Что может быть восхитительнее дружеских обедов, когда сотрапезники непринужденно и живо беседуют, облокотившись на белую скатерть… – писал Альфонс Доде. – Садились за стол часов в семь вечера, а в два часа ночи трапеза еще не заканчивалась. Флобер и Золя ужинали, сняв пиджаки, Тургенев растягивался на диване; выставляли за дверь гарсонов – предосторожность излишняя, так как „гортанный голос“ Флобера разносился по всему зданию, – и беседовали о литературе… Всякий раз у нас была одна из наших только что вышедших книг… Разговаривали с открытой душой, без лести, без взаимных восторгов». (Альфонс Доде. «30 лет в Париже».)
Когда с обсуждением книг бывало покончено, обращались к темам более общего характера. Часто эти хорошо поевшие и изрядно выпившие мужчины разговаривали о любви. Для Золя, для Мопассана, для Флобера, для Эдмона де Гонкура любовь была прежде всего физиологическим явлением. Они говорили о ней с наслаждением, как о только что съеденных блюдах. Их похотливые изъяснения сопровождались громким смехом. Тургенев, напротив, видел в соединении мужчины и женщины явление сверхъестественное. «Я, – говорил он своим друзьям, – касаюсь женщины с чувством благоговения, волнения, удивления, испытывая счастье». (Дневник братьев де Гонкур, 5 мая 1876 года.) А Эдмон де Гонкур добавлял к этому: «Он (Тургенев) говорит, что любовь вызывает у человека чувство, несравнимое с каким-либо другим чувством, что оно человека, который по-настоящему влюблен, заставляет забывать самого себя. Он говорит об ощущении нечеловеческой тяжести в сердце, он говорит о глазах первой женщины, которую он любил, как о чем-то совершенно нематериальном, неземном… Все это хорошо, но вот горе: ни Флоберу, несмотря на его пышные выражения при описании этого чувства, ни Золя, ни мне самому никогда не случалось влюбляться очень сильно, и поэтому мы не были способны живописать любовь. Это мог сделать только Тургенев». (Дневник братьев де Гонкур, 5 мая 1877 года.) Не называя Полины Виардо, именно ей он посвящал свои любовные строки. Рядом с этими законченными «реалистами», обладавшими прекрасным аппетитом, он оставлял впечатление оторванного от жизни, бесплотного человека – идеалиста. Может быть, это было уже проявление возраста? Нет, как бы глубоко Тургенев ни погружался в свои воспоминания, он оставался все тем же неисправимым романтиком в своем веке. Всю свою жизнь он был увлечен загадкой женщины. Каждая из них была для него целым миром, который нужно открыть. Он переходил, таким образом, от изучения к изучению, от восторга к восторгу. Однако, не будучи человеком пылкого темперамента, он искал в избраннице духовное, а не физическое наслаждение.
Однажды вечером, когда встали из-за стола, Теофиль Готье опустился на диван и сказал, вздохнув: «Что касается меня, то меня ничто больше не интересует, мне кажется, что я больше не ваш современник… Мне кажется, что я уже умер!». – «А у меня, – подхватил Тургенев, – другие чувства. Знаете, временами в доме появляется едва уловимый запах мускуса, от которого нельзя избавиться, который нельзя изгнать… Так вот, вокруг меня будто всегда витает запах смерти, небытия, распада». (Там же, 5 марта 1872 года.) Тем не менее он утверждал, что не боится смерти. «О смерти? Я о ней не думаю, – убеждал он Доде. – У нас никто ясно ее не представляет, это нечто далекое, неясное… славянский туман». Доде добавлял: «Славянский туман покрывает все его творчество, окутывает его, вносит в него трепет жизни, и сам разговор писателя как бы погружен в него». (А. Доде. «30 лет в Париже».)
Этот «славянский туман» сгущался год от года в жизни и произведениях Тургенева. По мере того как он приближался к старости, он более обостренно воспринимал потусторонний мир. Много раз уже его приводили в растерянность галлюцинации. Спускаясь по лестнице к столу, он заметил поднимавшегося в свою туалетную комнату, одетого в охотничий костюм Луи Виардо, а минуту спустя, войдя в столовую, увидел того же Виардо, который мирно сидел на своем обычном месте. Или же в Лондоне он разговаривал с пастором и вдруг рядом со своим собеседником увидел его скелет с выступающими зубами и пустыми глазницами. Или еще: однажды солнечным утром призрак незнакомой женщины в пеньюаре навестил его и обратился на французском. Будучи агностиком, он признавал влияние этих видений на свою жизнь и работу. Да, в самом деле, в его характере и творчестве была странная раздвоенность. Рядом с человеком дневным, ясным, рассудительным, твердо стоящим на земле, вырисовывался человек ночной, одолеваемый предчувствиями, ослепленный видениями. За дневными, прекрасно построенными, основательными, ясными романами следовали ночные повести, носившие отпечаток таинственности. Отрицая учение официальной церкви, Тургенев все больше и больше убеждался в существовании другого мира. Потустороннее дыхание набегало волнами. Он выплескивал свой страх на страницы таких повестей, как «Призраки», «Собака», «Тук-тук-тук», «Часы». Последнюю повесть сам автор находил «странной». Следующая повесть, «Сон», была настоящим кошмаром, описанным с точностью и отчаянной смелостью. Насилие, навязчивое состояние виновного отца, мания, колдовство – Тургенев позволил себе дойти до галлюцинаций, которые пугали, пленяли его. В другой повести, «Рассказы отца Алексея», он анализирует, как бес медленно овладевает душой. Даже «Живые мощи» – этот типично русский шедевр – тоже имели потусторонние звуки. 5 (17) марта 1877 года Тургенев пометит в своем дневнике: «Полночь. Сижу я опять за своим столом. И у меня на душе темнее темной ночи… Могила словно торопится проглотить меня: как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный… Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать…»
После этих приступов болезненной меланхолии он чувствовал облегчение. Жизнь вступала в свои права, он снова с удовольствием посещал своих друзей, покупал картины в салоне Друо и поддерживал Лаврова в его революционных начинаниях. Странный человек этот Лавров! Если Бакунин советовал интеллектуалам идти в народ, поднимать его на немедленное всеобщее восстание, то более умеренный Лавров побуждал их разделить жизнь трудовых масс, воспитывать их, просвещать их и готовить, таким образом, завтрашний социализм. Призывы двух учителей подхватила русская молодежь. В 1873-м юноши и девушки испытали страстную необходимость разделить страдания простых людей. Следствием императорского указа, который предписывал русским студентам, жившим в Швейцарии, вернуться на родину, было то, что тысячи молодых, революционно настроенных пропагандистов пошли в деревни. Движение получило название «народничество». Сменив студенческие сюртуки на крестьянскую одежду, миссионеры становились земледельцами, рабочими. После работы они говорили с мужиками о необходимости экспроприации у помещиков их владений и установлении коллективной собственности на землю.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Иван Тургенев - Анри Труайя», после закрытия браузера.