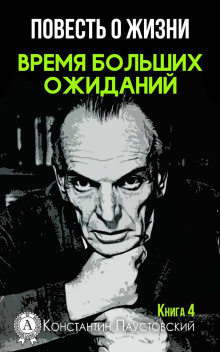Читать книгу "Повесть о жизни - Константин Георгиевич Паустовский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но об одном я не могу умолчать, потому что это, пожалуй, одна из самых горьких правд на земле, – вскоре Маргарита нашла себе богатого возлюбленного и сбежала с ним из Тифлиса.
Каждому свое
В Тифлисе я жил среди разнообразных людей, но все они обладали одним общим свойством: каждый был полон своими мыслями и своим делом, каждый говорил о своем и мало обращал внимания на остальных, особенно на тех, кого считал чужаком. Бабель уехал в Москву еще до моего приезда в Тифлис, и единственным человеком, с которым мы сходились в мыслях, был Фраерман.
В среде футуристов – писателей и художников я считался не то чтобы чужаком, но «диким»: колеблющимся и непосвященным.
Так обо мне думали, должно быть, потому, что я не ввязывался в споры и одинаково не принимал ни «темно-серую» литературу Шеллеров-Михайловых, ни «сиропные» стишки Ратгаузов, ни заумные «смыки» и «мыки».
Спорил я только с постоянным посетителем дома Зданевичей, поэтом Николаем Чернявским. Он был влюблен в Грузию и потому звал себя не Николаем, а по-грузински – Колау.
Стихи он писал таким способом, что без чертежа почти невозможно было объяснить этот способ. В общем, он сначала писал основной текст стихотворения, даже довольно понятный. Но путем типографских ухищрений и игры шрифтов одно и то же стихотворение превращалось в три.
Достигалось это тем, что стихи печатались вместе, но тремя размерами шрифтов. Если вы читали только слова, набранные самым крупным шрифтом, не обращая внимания на слова, напечатанные средним или мелким шрифтом, то получался один текст.
Если же вы читали слова, набранные средним шрифтом, пропуская остальные шрифты, то получался второй, совершенно самостоятельный текст стихотворения.
Если же вы, наконец, читали самый мелкий шрифт (предположим, петит или нонпарель), то получался третий, неожиданный текст.
Этому головоломному и вгонявшему в отчаяние занятию Колау Чернявский отдавал почти все свое время.
Чтобы довести писание стихов этим способом (такие стихи назывались симфоническими) до возможного совершенства, надо было знать все шрифты и типографское дело. И Чернявский знал его блестяще.
Вообще познания Чернявского в любой области были поразительными, суждения – резкими и нетерпимыми, а преданность всем «левейшим» течениям в искусстве – безграничной.
Он мог в проливной дождь позвонить среди ночи у дверей Зданевичей, разбудить Кирилла и прочесть ему последние дошедшие с севера стихи Хлебникова. При этом просыпалась, конечно, вся квартира, даже старик Зданевич. В силу семейных традиций старик горячо поддерживал все самое «левое» в искусстве.
Чернявский – человек совершенно одинокий – почти все дни напролет проводил у Зданевичей. Он непрерывно что-то рассказывал, доказывал, возмущался и восхищался. Его постоянными слушательницами были Валентина Кирилловна и Мария. Они не только терпели, но и любили и жалели Чернявского. У него изредка бывали припадки эпилепсии. В этих случаях звали на помощь меня.
Чернявский был удивительным разговорщиком. Ему было совершенно все равно, чем занимается его собеседник, лишь бы он его слушал. Когда Мария прибирала комнаты, он ходил следом за ней, натыкаясь на мебель, и не переставал говорить. Или торчал на кухне, когда Валентина Кирилловна готовила свой знаменитый плов, и, внезапно прерывая поток речей о живописи или грузинском правописании, давал ей ценные кулинарные советы.
Изредка Валентина Кирилловна и Мария силой вталкивали Чернявского ко мне в комнату и запирали за ним дверь на ключ. Это Чернявского не смущало, и он с полным самозабвением обрушивался на меня.
Вообще же он был очень незлобивым и беспомощным человеком. Его обманывали и обижали на каждом шагу. В этих случаях его единственными защитниками были Зданевичи.
И вместе с тем он принадлежал к тем чудакам, которые не только украшают, как принято думать, жизнь, а дают ей, кроме того, прочную основу. Стоило Коле не прийти два-три дня, как вся жизнь в квартире разлаживалась, шла кое-как и все начинали скучать.
Много разных людей бывало у Зданевичей. Они заходили кстати и ко мне – и добродушный старый армянский поэт Кара-Дервиш, выпустивший полное собрание своих стихов на двенадцати почтовых открытках, и рыцарски-доброжелательный и мудрый поэт Тициан Табидзе, и художник Терентьев, сделавший первую попытку вынести театр на городские площади, и Василий Каменский, и Чачиков (он тоже переехал из Батума в Тифлис), и режиссер Шенгелая.
Дом с утра до вечера гудел от разговоров. Единственным местом, где можно было отдохнуть, оставалась моя комната. Чаще всего ко мне приходила Валентина Кирилловна, потом начала приходить Мария.
– Я вам не помешала, не-ет? – пела она за дверью, и глаза ее смеялись.
Она сидела тихо, притаившись, нисколько меня не стесняясь, шила или читала, склонив голову так низко, что волосы падали ей на глаза, и вдруг спрашивала меня что-нибудь совершенно неожиданное, например, что значит высокий подъем у ноги и чем он измеряется, или читал ли я книгу Катюля Мендеса «Король-девственник» и правда ли, что Пушкин написал об известной испанской танцовщице Лале Рук изумительные стихи:
И в зал, как лилия крылатая,
Колеблясь входит Лала Рук…
Уходила Мария всегда, как бы испугавшись.
Однажды она принесла мне большую папку с рисунками.
– Это ваши? – спросил я.
– Нет, что вы! Это рисунки одного необыкновенно талантливого, даже, может быть, гениального художника. Увидите сами.
Она ушла, а я начал рассматривать рисунки, сделанные где попало: то на картоне, то на папиросной бумаге, то на листках, вырванных из ученической тетради, то на обороте книжного переплета.
Первой моей мыслью было, что Мария принесла мне рисунки Делакруа. Но нет! Они были так же выразительны, но, пожалуй, более разнообразны по содержанию.
Рисунки были сделаны карандашом, углем, сангиной и акварельными красками.
Я искал подпись автора, но неизвестный художник, видно, не любил оставлять свою фамилию на рисунках. Лишь кое-где он написал свое имя «Зига». Зига значит Сигизмунд. Мария была полька. Я догадывался, что рисунки принадлежат кому-то из ее близких людей.
Вскоре все выяснилось. Я узнал о существовании замечательного художника Зиги, или Сигизмунда Валишевского. Он был братом Марии. При меньшевиках он уехал из Грузии в Польшу, потом недолго жил в Париже и вернулся в Краков.
Там он стал главой молодых художников.
Он любил только живопись, знал только живопись, рассматривал все жизненные события как художник и верил, что только искусство способно преобразить и украсить мир.
Он был художником-рыцарем, подвижником и неумолимо требовательным к себе и к другим, зрелым и ясным мастером.
Он был скромен, прост, добр к людям и жестоко изуродован.
Из-за какой-то
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Повесть о жизни - Константин Георгиевич Паустовский», после закрытия браузера.