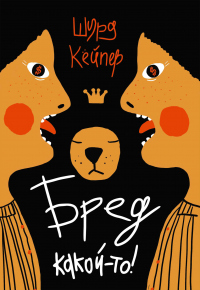Читать книгу "Три прозы - Михаил Шишкин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Далее свидетельница заявила, что Д. впоследствии заходил к ней в библиотеку неоднократно под предлогом составления сметы для ремонта: разбитое стекло, решетки на окнах, облупившийся потолок, сгнивший пол, печка дымит, дверь в дегте, крыльцо пляшет, – или просто невзначай, мол, мимо проходил, дай, думаю, зайду на огонек, проведаю, смотрите, снег какой выпал, сейчас бы на лыжах да на сопку.
Из окна, действительно, мир казался первоснежным, и на солнце струились за забором к реке голубые лыжные следы.
Д. не сразу заметил, что с пальцем Сони что-то не так, с мизинцем левой руки. Она все время прятала руку под стол, или сжимала в кулак, или совала под мышку. Это случилось лет пять назад, сад был уже раздет и разут, она ходила в Рождествено, к печнику, и по дороге, в Ильинской балке, на нее напали беглые, двое, били ее и, изорвав платье, насиловали. От удара палкой по голове она потеряла сознание, а когда пришла в себя, услышала их разговор – они подумали, что она уже умерла, и Соня продолжала лежать, не шевелясь и стараясь не дышать. Для верности один из них сломал ей палец, и Соня стерпела.
Однажды Д. пришел, а она сидела за столом и выковыривала английской булавкой косточки из вишен. Ее руки были вишневые и фартук, и даже на лбу и щеках были вишневые брызги. На столе лежала газета, и та тоже была вишневая и бугрилась. Перед Соней стояли две миски, одна с целыми вишнями, а другая с растерзанными, косточки с мякотью слиплись горкой посередине прямо на размокшей бумаге.
Соня сказала, держа булавку над миской, чтобы не капнуть на пол, что все варят варенье и вот она тоже решила сварить пару банок.
– Куда мне одной? Двух пол-литровых хватит.
Д. взял кухонное полотенце, набросил на живот и колени и тоже сел выковыривать косточки. Соня дала ему булавку. Спелые вишни брызгались и не давались. Мякоти на косточках оставалось много. Д. брал их в рот и обсасывал. Горка обсосанных гладких косточек походила на горку черепов оловянных солдатиков.
В открытое окно прилетали осы. Соня отгоняла их локтем. Одну, что ползла по передовице, Д. прижал к столу булавкой в талии и располовинил. Голова заползала по вишневым буквам, дергая щупальцами, а из острия отставшего туловища жало кололо знойный день.
Д. рассказывал Соне о своей выжившей из ума старой бабке, которая не узнаёт его больше по телефону.
– Это мертвые полезли, – сказала Соня.
– Как это? – не понял Д.
– Так бывает в конце жизни. Мертвые, они ведь никуда деться не могут. Это живые умирают. Был среди нас – и исчез. А мертвым – куда исчезнуть? И вот они всё ждут, а потом начинают лезть. Как бы приходят за нами. И забирают к себе. Так с каждым происходит. Это нормально.
И Д. вспомнил, как однажды уже с этим столкнулся, но забыл. Много лет назад отмечалось тысячелетие победы. Д. был тогда молодым журналистом. Ему сказали для победного номера сделать материал про дом. Там в одном подъезде висела мемориальная доска с фамилиями тех, кто жил в этом доме и погиб на войне. Короче говоря, небоскреб Нирнзее в Гнездниковском. И мать одной девочки, которой фашисты, как Зое Космодемьянской, отрезали грудь, еще, оказывается, была жива, ей только исполнилось тысяча лет, и старуха проживала в том же доме все в той квартире на шестом этаже.
В огромном пустом подъезде было холодно и жил сквозняк в разбитом стекле. То и дело хлопали двери. Под мемориальной доской пара почерневших гвоздик из тряпочек. Д. подумал, что повесь они здесь доски с жильцами, погибшими на другой войне, – никаких бы, наверно, стен не хватило.
Еще Д. подумал, поднимаясь – лифт не работал – по стертой лестнице, на которой когда-то лежали ковры, о том, как странно устроен мир: вот уже тысяча лет прошла, а этой женщине хоть бы что – библейский возраст. И ничем здесь никого не удивишь – тут всем по тысяче давно исполнилось. И еще было странно, что когда-то, тоже тысячу лет назад, в пионерском лагере имени Зои Космодемьянской Д. смотрел в маленьком музее, где были выставлены заржавленные пробитые каски и даже штык, на большую фотографию мертвой девушки в снегу с петлей на шее и голой грудью, и от этой голой женской груди ему тогда становилось не по себе и что-то потягивало в отроческой мошонке.
Коридоры в доме были просторные, длинные, прямые, гулкие, как иллюстрации к словарной статье о перспективе.
Мать той девушки звали Клавдия Ивановна Бирюкова. К приходу корреспондента она накрасила губы, надушилась, надела парадное лиловое платье и медали. В двух маленьких комнатках стоял запах старинной мебели, лекарств и старческих духов. Клавдия Ивановна когда-то работала в ВЦСПС, а потом в Комитете советских женщин, и на стене висела фотография, на которой она была изображена в обнимку с Валентиной Терешковой.
– Вот я для вас приготовила, – сказала Клавдия Ивановна и достала листок, исписанный тряским, сенильным почерком. Она надела очки с треснувшим стеклом, подклеенным синей изолентой, и стала читать, теребя бумагу:
– В суровую годину испытаний, обрушившихся на нашу Родину…
Д. сначала слушал, оглядываясь, рассматривая корешки книг в шкафу, грудастую японку в купальнике на календаре, проросший лук на подоконнике в цветочных горшках. Потом вежливо прервал старуху и попросил, чтобы она просто рассказала ему про свою жизнь. Клавдия Ивановна недоверчиво взглянула на Д., а он стал объяснять ей, что у него такое задание, просто написать о ее жизни, о дочке и все такое прочее. Клавдия Ивановна сначала нерешительно отказывалась, говоря, что это никому не интересно и не нужно, но потом Д. спросил, как они попали в этот дом, и она стала вспоминать.
– Мы с моей мамой работали в пуговичной мастерской, – говорила старуха, чему-то улыбаясь. – Пришивали пуговицы к картонкам, мама большие, а я маленькие. Мне было восемь лет. И это вам интересно?
– Да, – кивал головой Д. – Вот это, про пуговицы, мне и интересно!
– А когда революция пришла, – продолжала она, уже не слушая Д., а глядя куда-то за окно, – я уже работала в швейной мастерской у Арбатских ворот, этого дома теперь давно нет. И началась для нас, простых людей, новая жизнь. Я пошла работать на военно-обмундировочную фабрику. Это у Краснохолмского моста. И никаких трамваев. Встанешь чуть свет, натянешь на себя все, что есть, перетянешься ремнем – и пешком через весь город. В огромном котле варили солдатские шинели. Очищали их от крови, вшей, а потом штопали, перешивали. А на них где лохмотья от шашки, где дырочка от пули.
Д. спросил про дом.
– Переехала сюда, когда вышла замуж. Мой Сергей Михайлович был членом партии с 1913 года, депутатом Моссовета, и ему выделили здесь квартиру. Наш дом так и назывался: 4-й дом Моссовета. У Сережи была большая семья, братья, сестры, и все мы ютились в одной комнате. Ночью ставили деревянные раскладушки, а днем вешали их на стену. А в двадцать пятом Леночка родилась. Доченька моя. Когда война началась, ей шестнадцати не было. Когда погибла, еще двадцати не исполнилось. А мне теперь уже восемьдесят три. Вот как вышло – ни Леночки моей нет, ни Сережи, а я все живу. Когда началась война, я работала в Центросоюзе. Дочка закончила восьмой класс. Мы заклеили с ней стекла бумажными полосками – вот эти самые стекла. Она сразу поступила в группу самозащиты дома. Я дежурила по ночам на работе – сидела на крыше, а она здесь. У них была дворовая компания – так говорили, но у них компания была, а двора не было – была крыша. Там когда-то раньше был знаменитый ресторан, а потом дети играли – огромная такая крыша. У них любимая игра была во флаги – нужно было захватить флаг противника – бегали с деревянными ружьями. Все хотелось им воевать. И вот пошли по улицам колонны бритых мальчишек с вещмешками. Идут и каждому встречному милиционеру или военному кричат «ура!» У нас на крыше разместились зенитки. Бомбоубежище было в подвале, где театр «Ромэн». Когда зенитки стреляли, дрожал весь дом. В Центросоюзе был организован отряд на трудовой фронт, и нас послали рыть окопы на ближних подступах. Меня назначили комиссаром. 15 октября построились колонной и пошли по улице Горького с оркестром. Дошли до Белорусского вокзала, там должны были сесть на поезд. И вдруг приказ – срочно эвакуироваться. Завтра же. Прибежала домой, устроили семейный совет. Бабушка ехать отказалась, никуда, сказала, из нашего дома не поеду, если уж суждено умирать, лучше в родных стенах. Леночка тоже ни в какую. Не хотела оставить бабушку. Да разве я сама поехала бы, если б не приказ? Выделили Центросоюзу электричку. Подцепили к ней паровоз, и поехали мы в Новосибирск. Так, в электричке, всю страну и отмахали. А в январе сорок второго с первой же возможностью я вернулась. Леночка стала ходить на курсы радистов, здесь, неподалеку от Пушкинской площади, а мне сказала, что поступила в пищевой техникум. А потом вдруг приходит и говорит: «Мама, я ухожу на фронт». Я в слезы. Креплюсь, а слезы сами текут. Я ее уговаривать: ты же слабая, болезненная, ну какой от тебя там прок. Она у меня в детстве очень болела. В первом классе пришла из школы, стала ботинки развязывать, и никак. Я ей: «Что ты балуешься!» А она плачет, руки трясутся. Вызвали врача. Положили Леночку в больницу, целый год там провела. Прихожу к ней, а она, крошка еще совсем, меня утешает: «Ну что ты, мамочка, не плачь, я поправлюсь, вот увидишь!» И крови всегда боялась, бывало, порежется, кричит: «Кровь, мама, кровь!» Я пошла провожать ее на Курский вокзал, а сама все уговариваю ее, чтобы не ездила – я бы могла ей сделать бронь. Она когда услышала это, так на меня посмотрела, будто впервые увидела. И говорит: «Мама, ты что?» Их сначала отправляли в Горький. Она отметилась и подошла прощаться. В платьице своем, в кофточке. Я опять ей про бронь, так она ушла, даже ничего не сказав. Застыдилась меня. И видела я тогда Леночку мою в последний раз. Мне нужно было ездить в командировки. Больше времени в разъездах проводила, чем в Москве. Послали меня в Калининский облпотребсоюз, в Ржев. Только что город освободили. Пока ехала, эшелон разбомбили. Наши два последних вагона только чудом и уцелели. Что поделаешь – пешком пошла. Ночью только добралась, с ног от усталости валюсь, а вместо города одни развалины. Люди ютятся в землянках. Меня разместили в сарае. Легла, мешок положила под голову. Вдруг чувствую: кто-то по мне ползает. А это крысы. Так всю ночь и не заснула. А утром на работу. Вот такие были командировки. А Леночкина часть стояла в Горьком. И вдруг меня посылают туда. Я вещей теплых набрала, положила в чемодан кулек конфеток и поехала. Приезжаю вечером, а их, оказывается, накануне отправили на фронт. А мне все не верится. Стою у забора и смотрю на девочек. Все в форме, все на мою Леночку похожи. И отдала им конфетки. Письмами только и жила. Почта приходила нерегулярно. То месяц, два никакой весточки, то сразу несколько треугольников. А мои письма, Лена написала, ребята у нее просили на раскурку. И вот я пишу ей и думаю, наверно, и это письмо кто-нибудь скурит. Сыночки вы мои.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Три прозы - Михаил Шишкин», после закрытия браузера.