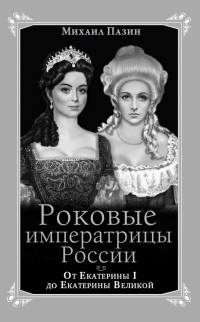Читать книгу "Страсти по революции. Нравы в российской историографии в век информации - Борис Миронов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Недостаток доказательности компенсировался высокой эмоциональностью и ужасными аналогиями: меня обвинили в биологическом детерминизме, вспомнили об использовании антропометрических данных в расистских теориях фашизма, а самый непримиримый критик заявил об аморальности антропометрических измерений. Подтвердились старые истины — «возражения против прогресса всегда сводятся к обвинениям в аморальности» (Бернард Шоу); люди склонны доверять тому, во что верят, и отвергать то, что этой вере не соответствует. И поколебать их веру чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Как ни парадоксально, ученые дамы и мужи, привыкшие думать строго логически, легко замечающие противоречия в аргументации у других, сами делали логические ошибки. Например, никто из оппонентов не подверг сомнению вывод о понижении уровня жизни в XVIII в., сделанный на таких же антропометрических данных, ибо это совпадает с устоявшимися представлениями. Возражения касались только последней трети XIX и начала XX в. — именно вывод о повышении благосостояния в этот период противоречит стереотипу.
Однако, как показали споры вокруг рукописи, предшествующие публикации, и дискуссия после выхода книги, дело заключалось не столько в том, повышался или понижался уровень жизни россиян в пореформенное время, а в том, какие выводы из этого следовали. Если уровень жизни повышался, то разговоры о системном кризисе в позднеимперской России, о социально-экономической обусловленности революционного движения, о несостоятельности реформ царизма, наконец — и это самое главное — о закономерности и необходимости Русской революции 1917 г. лишались твердой почвы. Пересмотр, казалось бы, частного вопроса о динамике уровня жизни требовал если не коренного пересмотра, то, по крайней мере, существенной ревизии представлений по принципиальным вопросам истории имперской России. Вот в чем, на мой взгляд, состояла главная причина бурной реакции на книгу «Благосостояние», являющуюся продолжением моей предыдущей монографии «Социальная история», по сути, третьим ее томом. В ходе этой дискуссии произошла консолидация сторонников оптимистической и пессимистической концепции российской истории. По аналогии с классификацией, используемой в зарубежной историографии, к «оптимистам» я отношу тех, кто считают, что в позднеимперский период в развитии страны наблюдались положительные тенденции, позволявшие при более удачном стечении обстоятельств избежать революции, а к «пессимистам» — кто настаивает на тотальном системном характере кризиса, с неизбежностью закончившегося революциями.
«Социальная история» увидела свет в 1999 г. Предположение о повышении уровня жизни в XIX — начале XX в. было высказано уже там, причем на основании преимущественно антропометрических данных. Никаких возражений против этого в многочисленных рецензиях мне не встречалось. В той же книге недвусмысленно пересмотрены представления о развитии имперской России. Правда, тогда я еще не решился из-за отсутствия достаточной доказательной базы подвергнуть критике идею о закономерности и объективности (в марксистском смысле) русских революций начала XX в., хотя и отметил стремление образованного общества к политической власти в качестве движущей силой революций. Кроме того, идеи о прогрессивной модернизации страны, повышении уровня жизни и революции не соединялись в причинно-следственную цепь. Это впервые сделано в «Благосостоянии». Поэтому, мне кажется, критика и пропустила эти принципиальные идеи без возражений. Те же, кто заметили, не высказались публично, по крайней мере, громко. На ревизию традиционной концепции кризиса и революции обратили серьезное внимание, пожалуй, только в С.-Петербургском институте истории РАН (далее — СПбИИ, как он называется с 2000 г.), где я работал, правда, после публикации «Социальной истории», так как я не обсуждал ее рукопись там ради получения рекомендации к печати, как это обычно делается.
Влиятельные противники моей концепции развития имперской России, как мне показалось, огорчились, поскольку выводы книги расходились с выводами коллективных монографий «Кризис самодержавия» (1984) и «Власть и реформы» (1996), написанных сотрудниками СПбИИ. В них, особенно во второй, в самом полном виде выражена концепция о системном кризисе позднеимперской России, закономерно закончившемся революциями, т.е. пессимистическая точка зрения на развитие России, лет 25 назад разделявшаяся большинством отечественных и зарубежных русистов. А я артикулировал оптимистический взгляд на историю имперской России. Книга «Власть и реформы» стала как бы брендом СПбИИ, а редакционная коллегия включала акад. Б.В. Ананьича, чл.-кор. Р.Ш. Ганелина и В.М. Панеяха, которых поддерживали А.А. Фурсенко (в то время член Президиума РАН и академик-секретарь Отделения истории РАН) и дирекция Института.
«Социальная история» создавалась как плановое задание СПбИИ в 1993–2000 гг., отведенное мне для подготовки монографии «Урбанизация и социально-экономическое развитие города и деревни в России XVIII — начала XX в.» (25 а.л.). Работа шла хорошо; я расширил ее проблематику и объем, в результате чего она превратилась в двухтомную книгу «Социальная история России периода империи» объемом около 100 а.л. Проблема урбанизации стала ее составной частью. За полгода до окончания планового срока мне даже удалось книгу опубликовать по издательскому гранту РГНФ без обсуждения в СПбИИ, поскольку мои предыдущие плановые работы я всегда заканчивал раньше планового срока, вызывая неудовольствие дирекции. Когда наступил срок отчета, в 2000 г., я предъявил опубликованную книгу для фиксации выполнения плана. Однако ученый секретарь СПбИИ Б.Б. Дубенцов обязал меня выделить из «Социальной» истории часть, связанную с проблемой урбанизации, на 25 а.л. и в виде рукописи представить для отчета и обсуждения. На мой недоуменный вопрос: «Зачем, если я имел задание создать крыло самолета, а построил целый самолет?», мне ответили: «Надо отчитаться только за план». И только эта, четвертая, часть книги в июле 2000 г. была рассмотрена и одобрена. Тогда я полагал, что это просто бюрократический ригоризм. Но позднее стало ясно — дело в другом: утверждение книги в качестве выполненного планового задания означало бы одобрение Ученым советом института моего труда, с чем ни при каких обстоятельствах не хотели согласиться руководители авторского коллектива указанных общих трудов, хотя другие их участники смотрели на это, на мой взгляд, достаточно спокойно.
Имелась и другая причина. В январе 2001 г. Т.В. Буланина (директор издательства «Дм. Буланин», опубликовавшего «Социальную историю») обратилась к директору СПбИИ с просьбой направить книгу на Макариевский конкурс (на соискание премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария). Он поначалу поддержал эту идею. Издательство подготовило необходимые документы. Однако вмешались те же влиятельные люди и убедили директора отказаться от намерения посылать книгу на конкурс. Тогда я решил апеллировать к Ученому совету института, но администрация в ответ на мою просьбу провела административное совещание из зав. отделами А.А. Фурсенко, Р.Ш. Ганелина (он временно выполнял обязанности зав. Отделом новой истории), В.М. Панеяха и четырех других, которое приняло решение в принципе не выдвигать на премии книги, которые не прошли обсуждение на Ученом совете и не имеют грифа СПбИИ. Это решение дирекция провела через Ученый совет (не называя мою фамилию), и таким образом раз и навсегда решила проблему — как не выдвигать нежеланные книги на премии, поскольку по действующим правилам право выдвижения на премии принадлежит в большинстве случаев исключительно организациям, где работает автор.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Страсти по революции. Нравы в российской историографии в век информации - Борис Миронов», после закрытия браузера.