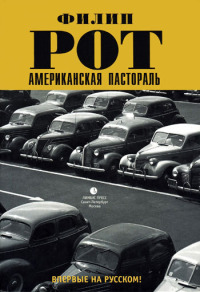Читать книгу "Чес - Михаил Идов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ролик действительно получился так складно и так быстро, что Эдди даже не огорчала необходимость разбирать оборудование, собранное три минуты назад. То, что лучше не вышло бы и с двадцати дублей, было понятно всем без слов. Все-таки мы неплохая группа, подумал Эдди, ощущая, как идиотская романтика бродячего коллектива, это ненавистное ему самому умиление дорожным братством, начинает одолевать его в тысячный раз. Все-таки мы здорово друг друга чувствуем. Здесь что-то есть. И это что-то не может хоть чего-то да не стоить. Оно не может ни во что не конвертироваться. Так не бывает, черт возьми, это противоречит законам физики. И экономики. Все, что нужно, – это один маленький толчок, один катализатор, одна удача, которая запустит цепную реакцию везения. И может, именно она ждет нас завтра в Чикаго. Или послезавтра в Детройте. Или десятого в Кливленде. Мы “Гистерезис”. Мы долго запрягаем, это факт: восьмой год пошел. Но мы быстро поедем. Только дайте нам шанс разогнаться.
– Эй, ребята! – Эдди поднял голову. Тони стоял над открытым капотом “эконолайна”, сжимая в каждой руке по карабину. Карабины раскрывали и закрывали обметанные сизой накипью пасти. В голосе Тони звенела неуместная веселость. – Проблемочка у нас.
Эдди Ю появился на свет 15 июля 1983 года в Ист-Норвич, сонном католическом городке – он так и написал в одном вступительном сочинении: “сонном католическом городке” – на севере Лонг-Айленда. Эдди был островитянином в третьем колене. От Азии ему в наследство достались только черные волосы щеткой, фамилия, в которой смешно отражался каждый собеседник, и тончайшие, почти женские черты лица, благодаря которым Эдди было страшно бить даже самым отпетым школьным хулиганам. Его отец, Вильям Ю, родился в двадцати милях к западу от Ист-Норвича, во Флашинге, а дед, Лайонел Ю, в пятнадцати милях к югу от Флашинга, в Бруклине. Из этой летописи скромного успеха можно было бы сделать изящный график, наподобие знаменитой минаровской схемы похода французов на Москву: представьте себе карту Лонг-Айленда, но с датами на оси X и долларами на оси Y. Северовосточный вектор семейных передвижений, таким образом, обозначал бы и переезды, и постепенный рост дохода. Именно такую карту Эдди в двенадцать лет и нарисовал, не будучи знакомым с хрестоматийным творением Шарля Жозефа Минара. На следующий день после короткого и очень тихого скандала с женой Вильям Ю вышел из спальни и объявил, что уроки пианино сокращаются с шести раз в неделю до двух. Родители посовещались и решили, что их сын будет великим экономистом.
На десять лет Эдди утонул в учебниках, вынырнув в двадцать два с внезапным и экстатическим осознанием собственной заурядности. Почти все простые удовольствия – секс, алкоголь, траву, поп-музыку и бессмысленные просторы социальных сетей – он открыл для себя с опозданием лет на пять: на первом курсе, как полагается, но уже аспирантуры. До оставшихся пунктов списка – однополых экспериментов и эзотерических духовных практик – руки так и не дошли. Кроме того, бытие опять предопределяла география. Эдди жил в безликом северном кампусе среди инженеров и программистов, в то время как настоящая университетская жизнь разворачивалась под холмом, в центральном. Там бесновались в захламленных викторианских особняках студенческие “братства”; сновали по аллеям в вечном сборе подписей под той или иной петицией радикальные феминистки, чьи проймы усыпанных значками маек оптимально обрамляли подмышечные эспаньолки; стоически воняли на своем пятачке газона троцкисты в черных водолазках, с лицевой растительностью, что часто уступала феминистской телесной; пытали поодаль гитару и наказывали барабан слегка осовремененные хиппи; в двух кинотеатрах, глядящих друг на друга через улицу, шли чудесные фильмы с субтитрами и без, о которых в северном кампусе не слышал никто. Хотя расстояние между городками преодолевалось минут за десять на бесплатном автобусе, герметичности разделяющей их психологической границы позавидовала бы корейская ДМЗ.
Сам Эдди проводил в центре почти каждый вечер, как правило, в одиночку. Пил кофе в “Кафе Амира”, смотрел кино в “Стейт” или “Мичиган”, часто прошмыгивая на два-три сеанса по одному студенческому билету, боязливо захаживал на гастролирующих панков в “Слепую свинью”. Друзей у него было мало, с личной жизнью не складывалось: в то время как азиатские девушки, коих в Мичигане училось удивительное множество, как новоприбывших из Китая и Кореи, так и отбеленных Лонг-Айлендом, наподобие Эдди, шли нарасхват у юношей всех рас, азиатские юноши могли на что-то рассчитывать лишь с азиатскими девушками. Которые – см. предыдущий пункт. Одевался он тоже (по студенческим меркам, требующим от незнакомца четких визуальных сигналов “свой / чужой”) не вполне внятно: длинное графитовое пальто поверх белой рубашки и галстука, черные армейские боты с отвернутым верхом, посаженные на толстую белую резину. В представлении самого Эдди фалды пальто хищно раздувались за ним при ходьбе, а боты мощно пружинили, придавая ему силуэт и аллюр этакого корпоративного супергероя; в реальности же пальто ворсистым мешком свисало с его покатых плеч, а обувь вызывала невольные мысли об убийцах из “Колумбайна”. Среди однокурсников расхаживала шутка, что Эдди Ю идеально подпадает под типаж, о котором зареванная соседка в теленовостях говорит: “Тихий он был, себе на уме”. Впрочем, всерьез никто так не думал. Эдди был слишком доброжелателен и слишком очевидно лишен главного ингредиента в закваске будущего социопата: он никому не завидовал. Кроме музыкантов.
Эдди боготворил музыкантов. Всех. Речь не шла о рок– или рэп-звездах, завидовать которым претило хотя бы потому, что они требовали от слушателя зависти едва ли не прямым (в рэпе – прямым) текстом. Нет, Эдди просто очень хотел играть музыку перед людьми; желание это по силе равнялось только уверенности, что он никогда этого не сделает. Его детских уроков пианино до сих пор хватало на вполне приличный уровень игры, но любой музыкант, выходящий на сцену перед аудиторией, все равно казался Эдди представителем иного, высшего вида. Хотя бы потому, что решился. Хотя бы потому, что знает, что именно будет играть, потому что нашел в этом бесконечном зеркальном зале себя. Как можно вообще что-то выбрать? Эдди, дорвавшийся до поп-музыки как раз в тот момент, когда физические носители перестали иметь значение, был настолько всеяден, что его коллекция, как его одежда, ни одному сверстнику ничего конкретного о нем бы не сообщила. Он слушал The Smiths, Долли Партон, лоу-фай на расстроенных гитарах, Savatage, Сюзанну Вега, софт-рок семидесятых, шанхайский шансон, Стива Райха, французский “йе-йе”, второразрядных рэперов из Атланты и Мемфиса, мексиканский ноу-вейв и, наконец, радио. Единственным его требованием к музыке было наличие хоть какой-то песенной формы – например, ему не очень нравился би-боп, точнее, нравились первая и последняя минуты каждой композиции. Эдди свято верил, что хорошую мелодию невозможно испортить ни дрянным исполнением, ни пошлой аранжировкой: когда чуткие к переменам ветра студенты спорили о том, “продались” ли Modest Mouse, записав альбом более чисто, чем обычно, или вздыхали о том, как омерзительно слышать Smells Like Teen Spirit в переложении на техно или лаунж-поп, Эдди вообще не понимал, о чем идет речь. Аранжировки, как одежда, как почти любой другой эстетический выбор, не содержали для него закодированной информации “свой / чужой”. Одним осенним вечером в столовой северного кампуса, пока инженеры и программисты вокруг мерно перерабатывали буррито, на крохотном полукруглом возвышении между дверьми в мужской и женский туалеты, именуемом сценой, в рамках какой-то особенно жалкой культурной программы выступал безымянный бард. Он играл на полуакустической гитаре, включенной прямо в столовскую систему громкой связи. Звук был отвратительный. Бард спел три песни Тома Петти, две – Боба Марли и штук пять своих, о качестве которых все уже сказано его выбором каверов. После каждой песни Эдди прилежно, как младенец, хлопал, вызывая недоуменные взгляды, в том числе и со сцены; а когда гость закончил свой сет семиминутной версией No Woman No Cry, в благоговении помог ему свернуть шнур и зачехлить гитару. Бард, не ожидавший подобного приема, жутко стеснялся и наконец подарил Эдди свой диск с автографом, над которым пыхтел и грыз ручку минуты три. Автограф гласил: “Самому крутому чуваку в студенческой зоне отдыха северного кампуса Мичиганского университета, Энн-Арбор, 22 сентября 2005 года”.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Чес - Михаил Идов», после закрытия браузера.