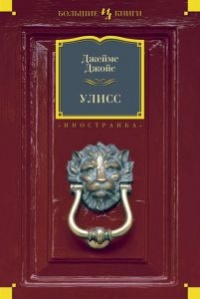Читать книгу "Дублинцы - Джеймс Джойс"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Но вы не можете применять любую терминологию, какая заблагорассудится.
– Я не менял терминов. Я их разъяснил. Под «классическим» я понимаю неспешное кропотливое терпенье искусства удовлетворения. Искусство же героическое, фантазирующее я называю романтическим. Скажем, Менандр или не знаю там…
– Весь мир считает Эсхила великим классическим драматургом.
– Да, мир профессоров, которые благодаря ему кормятся…
– Сведущих критиков, – произнес ректор строгим тоном, – людей высочайшей культуры. И публика даже и сама способна оценить его. Я читал где-то… в газете, кажется… что Ирвинг, Генри Ирвинг, великий актер, поставил одну из его пьес в Лондоне и лондонская публика валила на нее толпами.
– Из любопытства. Лондонская публика повалит поглазеть на любую курьезную новинку. Если бы Ирвинг начал представлять крутое яйцо, они бы тоже повалили глядеть.
Ректор воспринял эту бессмыслицу с несокрушимой серьезностью и, дойдя до конца дорожки, несколько мгновений помедлил, прежде чем выбрать путь в направлении дома.
– Как мне предвидится, защита вашего дела в этой стране едва ли будет успешной, – сказал он отвлеченно. – Наш народ тверд в вере, и поэтому он счастлив. Он верен своей Церкви, и Церкви для него вполне достаточно. Даже для мирской публики эти современные писатели-пессимисты – это уже… уже слишком.
Перемахивая презрительным умом из Клонлиффской семинарии в Маллингар, Стивен стремился подготовить себя к некоему определенному соглашению. Ректор заботливо перевел разговор в русло легкой беседы.
– Да, мы счастливы. Даже англичане стали убеждаться в безумии этих болезненных трагедий, этих жалких, несчастных, нездоровых трагедий. На днях я читал, что один драматург был вынужден заменить последний акт в своей пьесе, потому что там заканчивалось катастрофой – каким-то жутким убийством, самоубийством или чьей-то смертью.
– Почему бы не объявить смерть уголовным преступлением? – спросил Стивен. – У них слишком робкий подход. Гораздо проще взять быка за рога и покончить с этим раз навсегда.
Когда они вошли в вестибюль колледжа, ректор остановился у подножия лестницы, прежде чем подняться в свой кабинет. Стивен ждал молча.
– Начните видеть в окружающем светлую сторону, мистер Дедал. В первую очередь, искусство должно быть здоровым.
Замедленным гермафродитическим жестом ректор присобрал сутану, чтобы взбираться по лестнице:
– Должен сказать, что вы отлично защищали свою теорию… право, отлично. Я, разумеется, не согласен с ней, но я вижу, что вы продумали всю ее целиком и весьма тщательно. Ведь вы тщательно ее продумали?
– Да, продумал.
– Это очень интересно – местами немного парадоксально, юношески незрело – но меня это очень заинтересовало. Я, кроме того, уверен, что, когда ваши занятия обретут большую глубину, вы сможете исправить свою теорию – чтобы она лучше отвечала общепризнанным фактам; я уверен, тогда вы сможете успешнее ее применять – когда ваш ум пройдет некую… систематическую… выучку и у вас появится более широкий кругозор… чувство сопоставления…
Неопределенный стиль ректорского окончания беседы оставил ум Стивена в сомнениях; он не мог решить, было ли отступление наверх разрывом дружественных отношений или дипломатичным признанием собственной несостоятельности. Однако, коль скоро ему не было объявлено прямого запрета, он решил идти спокойно своим путем, пока на этом пути не встретится реальных препятствий. При новой встрече с Макканном он с улыбкою ждал, чтобы тот сам начал его расспрашивать. Его рассказ о беседе обошел все курсы, и ему было очень забавно наблюдать потрясенные выражения многих пар глаз, которые, судя по их нескрываемому и приниженному изумлению, явно видели в нем черты некоего морального Нельсона. Морис также выслушал рассказ брата о его битве с власть предержащим, однако не сделал никаких замечаний. Не получив содействия со стороны, Стивен сам принялся комментировать происшествие, пространнейше обсуждая каждый наводящий на размышление момент беседы. Он истратил массу горючего для воображения в сей увлекательной ловле предположительного, и эти стремительные, переменчивые гонки разожгли в нем огонек недовольства безразличием Мориса:
– Да ты меня слушаешь или нет? Ты знаешь, о чем я говорю?
– Да, все окей… Тебе разрешили прочесть доклад, так ведь?
– Разрешили, да… Только что это с тобой? Тебе что, скучно? Или ты думаешь о чем-то?
– Ну… в общем, да.
– И о чем же?
– Я понял, почему я сегодня вечером себя чувствую по-другому. Как ты думаешь, почему?
– Не знаю. Поведай сам.
– Я встал сегодня [на] с левой ноги. А обычно я встаю с правой ноги.
Стивен бросил искоса взгляд на торжественное лицо говорящего, ища на нем признаки насмешливого настроя, но, обнаружив лишь прилежный самоанализ, промолвил:
– Неужто? Это чертовски интересно.
В субботний вечер, что был назначен для чтения доклада, Стивен обнаружил себя находящимся перед скамьями амфитеатра Физической аудитории. Пока секретарь зачитывал повестку дня, он успел заметить монокль отца, блеснувший наверху у окна, и скорей угадал, чем разглядел вплотную к сему наблюдательному прибору дородную фигуру мистера Кейси. Брата он не увидел, но на передних скамьях помещались отец Батт и Макканн, а также и еще два священника. Заседание вел мистер Кин, профессор английской словесности. Когда официальная часть закончилась, председатель предоставил слово докладчику, и Стивен поднялся. Он переждал скромные аплодисменты и следом за ними, «в качестве заключительного приветственного соло, четыре звучных хлопка энергических ладоней» Макканна. Затем он прочел доклад. Читал он негромко и отчетливо, обертывая каждую дерзость мысли или стиля в невинную оболочку ровно льющегося звучания. Он спокойно дочитал до конца; чтение ни разу не прерывалось аплодисментами; и металлически ясным тоном произнеся заключительные фразы, сел на место.
Первой мыслью, которая прорезала стремительно охватившее его смятение, было острое убежденье, что этот доклад ни за что не надо было писать. Покуда он мрачно держал сам с собой совет, следует ли ему «швырнуть рукопись им в физиономии» и уйти восвояси или остаться на своем месте, прикрывая лицо от свечей на председательском столе, до него вдруг дошло, что доклад начали обсуждать: это открытие удивило его. Хилан, оратор колледжа, предлагал выразить благодарность докладчику и в такт своим цветастым фразам мотал головой. Стивена занимало, видит ли еще кто-нибудь, как совершенно по-детски шевелятся губы оратора. Ему хотелось, чтобы Хилан как-нибудь энергично клацнул челюстями, чтобы объявилось наличие у него крепких зубов; сам звук речи напоминал ему звуки при растирании хлеба в молоке, когда нянька Сэра готовила для Айсабел в голубой миске, где мать теперь держала крахмал. Но он тут же одернул себя за подобный тип критики и заставил вслушаться в слова оратора. Хилан велеречиво восхищался: ему представлялось (как он сказал) во время чтения доклада мистера Дедала, будто он слушает разговоры ангелов и не знает языка, на коем они беседуют. Не без великой робости он дерзает на критику, однако явственно было, что мистер Дедал не постиг всей красоты аттического театра. Оратор указал, что имя Эсхила вовеки нетленно, и предсказал, что драма эллинов еще переживет немало цивилизаций. Стивен заметил, что Хилан дважды заменял в произношении гласную «е» на «и», подражая отцу Батту, происходившему с Юга Англии, и принялся размышлять о том, [у кого] была ли заключительная фраза оратора взята им у доминиканского или иезуитского проповедника. «Греческое искусство, – сказал Хилан, – принадлежит не одной эпохе, а всем эпохам. Оно возвышается в гордом одиночестве. Оно является «имперским, императорским, императивным».»
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дублинцы - Джеймс Джойс», после закрытия браузера.