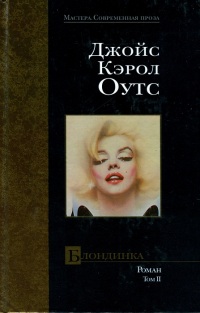Читать книгу "Вор, шпион и убийца - Юрий Буйда"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Мы оба поступили некрасиво, но ты поступил по-мужски, а я — по-божески.
В прихожей Римма проговорила, глядя в угол:
— Она переспала с моим первым парнем, чтобы доказать, что я ничего не стою… а ему было шестнадцать… потом я ей отомстила, увела у нее любовника… потом другого… а она — у меня… наверное, эта война не закончится, пока я не убью эту суку… или она меня… и кесарево — это ведь она, эта сука, заставила меня сделать кесарево…
Дверь из гостиной распахнулась, и Эмма закричала с порога:
— Ну зачем ты ему это рассказываешь? Ну зачем? Он чужой, Римма, чужой! А мы свои… я сука, да, я — твоя сука, твоя сука, девочка моя любимая, твоя сука, твоя, а ты — моя…
Римма схватила ее за руки, обняла, они разрыдались.
Я выскользнул за дверь, спустился на улицу, перевел наконец дыхание и закурил. Никогда еще я не чувствовал себя таким чужим, посторонним, лишним, как в те минуты. Эти две женщины, мать и дочь, годами терзали друг дружку, и их мучительные жизни медленно сгорали, не выделяя ни тепла, ни света, и это была любовь — любовь, черт побери, любовь без глубины и высоты, любовь на уничтожение, любовь безлюбая и бесконечная, как смерть…
В детстве каждая встреча с незнакомцем — это Страшный суд, каждая утрата — Апокалипсис, потому что ребенок не знает стыда, который объединил бы его с другими людьми, и только потом, с возрастом, он становится историческим существом, одновременно единственным и одним из многих. Я не испытывал стыда, думая о Римме и Эмме. Мне только предстояло понять, что непознанное — лишь часть непознаваемого, даже если речь о людях, а не о боге и дьяволе, — понять, а еще сделать самое трудное — смириться с этим.
А тогда — тогда, сунув руки в карманы, я неторопливо пошагал к трамвайной остановке, чувствуя себя чистым и свободным.
Я вышел в широкий створ между Домом профсоюзов и строившейся гостиницей, и сквозь снежную мглу, колыхавшуюся тяжко и торжественно, навстречу мне всплыла из поймы Преголи громада Кафедрального собора, убожество которого — руина и руина — тонуло в морозной ночи, скрадывалось, размывалось русским снегопадом. Мимо пронесся, глухо погромыхивая на стыках рельсов, узкий, ярко освещенный трамвайчик, нырнул к основанию моста и тотчас взбежал на горб эстакады.
Нет ничего тоскливее, чем слякотная, промозглая, тухлая зима в Калининграде. Но нет ничего прекраснее, светлее, головокружительнее, чем зимняя ночь в Кенигсберге, да еще безветренная, со свежим снегом, вдруг повалившим с темных небес. Дышалось легко и свободно, и только сладостный страх, не затрагивавший сердца, но лишь слегка бередивший душу, напоминал о смертности человеческой. На улицах еще не улеглась беготня, но снег и тьма, свет множества фонарей, окон и автомобильных фар сделали свое дело: привычный кошмар нового города со всеми его убогими пятиэтажками стремительно угасал, уступая место древнему, устоявшемуся, пусть иллюзорному, но оттого еще более привлекательному и неожиданному, незнакомому чувству, которое забирало душу при виде этих островерхих черепичных крыш, узких улочек, вымощенных плоским булыжником, фахверковых домов…
Я остановился под кроной тополя, почему-то не сбросившего свои жестяные листья, извлек из нагрудного кармана сигару «белинда» — любил, любил повыпендриваться — и чиркнул спичкой. Аромат кубинского табака смешался с арбузной свежестью снегопада и запахом дорогих мужских духов, накрывшими меня с головой, когда по тротуару прошла державшаяся за руки парочка красивых педерастов со счастливыми ослепительно-белыми лицами, яркими блестящими губами и черными провалами глаз…
Я любил приходить сюда вечерами. Садился на лавочку и подолгу курил, глядя на Кафедральный собор и стоявшую на другом берегу ганзейскую Биржу, которая встречала гостей дома культуры моряков широким лестничным маршем и двумя львами, державшими в лапах рыцарские щиты — с них давным-давно были аккуратно сбиты гербы Ганзы и Кенигсберга. Я не был историком и знал о семисотлетней предыстории Калининграда не больше, чем другие, да и если бы даже меня допустили в старые архивы, вряд ли я долго выдержал: меня мало интересовал реальный Кенигсберг, где не находили себе места Гофман и Клейст, а в разгар русско-японской войны некий университетский доктор Шаудинн порадовал мир открытием бледной спирохеты. Меня притягивал скорее образ утонувшего в вечности города королей, и в такие минуты жизнь моя представлялась мне путешествием в прошлое, в миф, и зыбкость существования между реальностью и этим иллюзорным прошлым вовсе не пугала, но вызывала озноб и даже что-то похожее на радость — самое безотчетное, а нередко и самое беспричинное из чувств, ощущений, состояний человеческих. Я это остро чувствовал, оказываясь вдруг в этом историческом зазоре, в этой напряженной неопределенности бытия, и воображение мое сливало образы чудес и чудовищ в некое целое, das Ganze, в мир превыше всякого ума, в котором я ощущал себя центром и средоточием необозримой и невообразимой сферы космоса.
Утонувшие во тьме, исчезнувшие панельные пятиэтажки, черепичные крыши, черные кроны деревьев, блеск булыжных мостовых, звяканье и лязг корабельных цепей, доносившиеся из порта, перезвон узких трамвайчиков, словно переламывающихся на горбатых мостах за Кафедральным собором, по ту сторону острова, где когда-то и зачинался город королей…
Я сидел на лавочке, курил и бормотал:
На дальнем горизонте,
Как сумеречный обман,
Закатный город и башни
Плывут в вечерний туман…[1]
Жить этим, конечно, нельзя, но забыть это — невозможно.
К следующим вступительным экзаменам я подготовился по-настоящему, без дураков, сдал на одни пятерки и был зачислен на историко-филологический факультет. Родители были довольны. А через десять дней я въехал в старое университетское общежитие на улице Чернышевского, в комнату номер 88, такую маленькую и узкую, что в ней с трудом помещались три солдатские койки с панцирными сетками, платяной шкаф, тумбочка и стол.
Самым трудным предметом для студентов-филологов оказалась история КПСС. Вел ее Иван Андреевич Парутин, профессор и проректор, человек маленького роста, с жидкими рыжеватыми волосами, в больших очках, которые вечно съезжали с его маленького точеного носика, и в пиджаке с белыми от мела карманами: в карманах он хранил карточки с цитатами и цифрами и то и дело доставал их рукой, из которой не выпускал кусочек мела. Он был суховат, тверд и требователен. Студенты — в большинстве своем вчерашние школьники — его боялись. Ведь вся наша школа, в том числе и высшая, была построена по-военному: учитель задает вопрос — ученик отвечает выученное. А Иван Андреевич требовал от студентов если не свободы мышления, то хотя бы самостоятельной умственной работы.
— Вот посмотрите… — Он доставал из кармана карточку. — Кулаки в конце двадцатых годов, накануне коллективизации, составляли примерно двенадцать-пятнадцать процентов населения, а давали они более шестидесяти процентов товарного хлеба. — Пауза. — Почему же тогда партия поставила задачу уничтожить кулака как класс? Ведь именно кулак и был основным производителем хлеба. Зачем же его уничтожать?
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Вор, шпион и убийца - Юрий Буйда», после закрытия браузера.