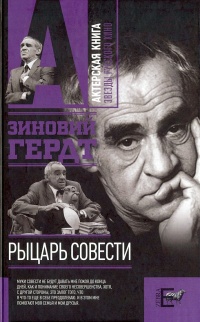Читать книгу "Мой Ницше, мой Фрейд... - Лу Саломе"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рукопись лежала у меня, и это стало поводом нашей первой после расставания встречи: в гёттингенском «Луфриде», названном так по надписи на нашем флаге, развевавшемся над крестьянским домиком в Вольфратсхаузене.
Я и сейчас вижу, как ты лежишь, растянувшись, на огромной медвежьей шкуре перед открытой балконной дверью, и на твоем лице отражается игра света и тени от шевелящейся листвы.
Райнер, это был наш Троицын день 1905 года. Он был им еще и в другом смысле, чем ты в своем умилении догадывался. Мне он казался вознесением поэтического произведения над поэтом-человеком. Впервые «творение», которое могло быть создано только тобой, выпрошенное у тебя, возвысилось над тобой, стало твоим господином и повелителем. Чего еще было желать! С замиранием сердца что-то во мне уже приветствовало элегии, которые появятся десятилетия спустя.
С этого Троицына дня я читала то, что выходило из-под твоего пера, не только твоими глазами: я воспринимала и одобряла написанное тобой как свидетельствование о будущем, к которому ты неудержимо шел. И с той поры я еще раз стала твоей – на сей раз по-иному, в своем втором девичестве.
Где бы ты потом ни жил, в каких бы странах ни обретался, тосковал ли по родине, по дарящему уверенность клочку земли или, гонимый охотой к перемене мест, еще сильнее стремился к полной свободе странствий, – чувство внутренней бездомности никогда больше тебя не оставляло. Сегодня, Райнер, когда вопрос о нашей национальной принадлежности приводит к политической конфронтации с немцами, я иногда спрашиваю себя, сильно ли повредила тебе твоя острая антипатия к австрийскому происхождению. Можно себе представить, что с детства любимая родина, родство по крови уберегли бы тебя от приступов отчаяния в периоды творческих кризисов, доводивших тебя до самоотречения. В родной почве с ее камнями, деревьями, животными есть нечто неприкосновенное, определяющее судьбу человека. Ты же, живя в Швейцарии, почти что выбрал себе новой родиной Францию, которая опостылела тебе еще в Париже. Это проявилось в языке, в выборе друзей, в новых творческих замыслах. Но пришло письмо от тебя, оно было полно стенаний. Растерянный, сбитый с толку, собирался, несмотря ни на что, вернуться в свою башню в замке Мюзо. О лирическом содержании твоих французских стихов я судить не могу, для этого мне недостает тонкости восприятия. Но мое, признаюсь честно, предубеждение мешает мне воспринимать кое-что из написанного тобой по-французски; например, когда ты говоришь о розе, я недоверчиво спрашиваю себя, чего в этих словах больше – тоски или упоения кощунственным мазохизмом?.. И потом, у меня есть твоя фотография той поры, она больно ранила меня в сердце, я никому ее не показываю. Когда я получила ее, меня поразила одна мысль: не нуждался ли ты, сочиняя стихи по-французски, в чужой земле, чтобы вслух высказать то, что молча и тайно влекло тебя к не признающей границ беспредельности?..
Но мне ли судить об этом? Оставаясь наедине с собой, я ломала голову над твоей судьбой – и не находила выхода. За увенчанным судьбой поэтом и за человеком, принесшим себя этой судьбе в жертву, я продолжала видеть еще одного человека, того, кем ты, в конечном счете, был по рождению: того, кто был уверен в себе и в своей миссии, которая придавала ему силы и о которой он был призван свидетельствовать. Всякий раз, когда мы снова встречались, разговаривали, мы жили в этом вечном измерении, из которого ты черпал доверие и в котором напоминал маленького ребенка, чьи шаги не могут увести в сторону, ибо они всегда направлены к сокровеннейшему ядру его самобытности. Тогда Райнер снова был без остатка со мной, мы сидели, взявшись за руки, испытывая чувство невыразимой защищенности, и если из этого чувства рождалась поэзия, она еще больше защищала тебя сиянием вечности. Когда я думаю об этом, я всякий раз слышу строки из «Часослова», которые в момент их возникновения (о Райнер, этот миг останется со мной навсегда) казались мне словами утешенного, веселого ребенка:
Два резко противоположных жизненных впечатления способствовали моей восприимчивости к глубинной психологии Фрейда: глубоко пережитое ощущение своеобычности и неповторимости внутренней жизни каждого человека – и то, что я выросла среди народа широкой душевной щедрости. О первом впечатлении я здесь говорить не буду. Второе связано с Россией.
Относительно русских нередко говорили, и сам Фрейд перед войной, когда заметно возросло число его русских пациентов, утверждал то же самое, а именно, что у этого «материала», как больного, так и здорового, наблюдается обычно редко встречающееся соединение двух особенностей: простоты внутренней структуры и способности в отдельных случаях словоохотливо раскрывать сложные, трудно поддающиеся анализу моменты душевной жизни. Точно такое же впечатление издавна производила и русская литература, причем не только у великих художников, но и у писателей средней руки (отчего она утрачивала строгость формы): в ней с почти детской непосредственностью и глубокой искренностью рассказывается о последних тайнах развития, словно оно, это развитие, здесь быстрее проходит путь из первозданных глубин к сфере осознания. Когда я думаю о типе человека, открывшегося мне в России, я хорошо понимаю, что делает его легко поддающимся нашему «анализу» и в то же время заставляет быть более искренним по отношению к самому себе – наслоения вытесненных инстинктов, которые у народов с более древней культурой тормозят прохождение импульсов от первоначальных впечатлений к их последующему осознанию, у него тоньше, рыхлее. Отсюда понятнее главная, основная проблема практического психоанализа. Она заключается в том, какая часть нашего общего инфантильного осадка обусловливает естественный рост, а какая вместо этого способствует болезненному сдвигу назад – от уже достигнутого уровня осознания к так и не преодоленным до конца ранним стадиям.
С точки зрения своего исторического развития психоанализ представляет собой практическую лечебную методику; я пришла к нему как раз в тот момент, когда открылась возможность по состоянию больного человека судить о структуре здорового: болезненное состояние позволяло четко, точно под лупой, увидеть то, что в нормальном человеке почти не поддается расшифровке. Благодаря бесконечной осмотрительности и осторожности методологического подхода аналитические раскопки слой за слоем вскрывали все более глубокие залежи первоначальных впечатлений, и, начиная с самых первых грандиозных открытий Фрейда, его теория подтверждала свою неопровержимость. Но чем глубже он копал, тем больше выяснялось, что не только в патологическом, но и в здоровом организме психическая основа представляет собой настоящий склад того, что мы называем «жадностью», «“грубостью», «подлостью» и т. д., короче, всего самого худшего, чего мы больше всего стыдимся; даже о мотивах руководящего нами разума вряд ли можно выразиться лучше, чем это сделал Мефистофель. Ибо если постепенное развитие культуры и уводит человека – через беды и уроки практического опыта – от этих качеств, то только вследствие ослабления инстинктов как таковых, то есть вследствие утраты силы и полноты жизни, и в конце концов от человека остается только изрядно истощенное существо, по сравнению с которым лишенное всякой культуры создание напоминает «крупного землевладельца» и потому больше нам импонирует. Вытекающая из такого положения вещей мрачная перспектива – вряд ли менее печальная с точки зрения здорового человека, чем с точки зрения больного, который, по крайней мере, мечтает о выздоровлении, – видимо, оттолкнула от глубинной психологии еще больше людей, так как порождала в них пессимизм, схожий с пессимизмом почти безнадежного больного, которого эта психология собиралась излечить от болезни.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мой Ницше, мой Фрейд... - Лу Саломе», после закрытия браузера.