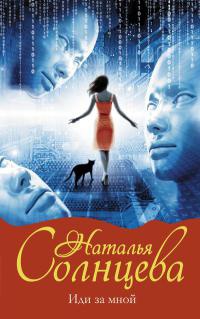Читать книгу "Буэнас ночес, Буэнос-Айрес - Гилберт Адэр"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Кима я встретил в книжной лавке, «Минотавре», которую на рю Бью-Артс держали двое сорокалетних гомиков и где продавались мемуары кинозвезд, «интеллектуальные» комиксы, монографии по истории искусств и сюрреалистически-порнографические альбомы, а самым почетным посетителем (по крайней мере я там его несколько раз видел) был Ален Рене.[102]Однажды утром в свой выходной день я просматривал кипу старых номеров журнала «Позитив», когда услышал высокий, но тем не менее несомненно мужской голос, который задал вопрос (по крайней мере интонация явно была вопросительная), который озадачил обоих хозяев лавочки, да и меня тоже.
— Леди Путти? — вот что мы услышали.
Покупателю было предложено повторить вопрос, но он смог только робко протянуть:
— Леди Путти, ессри можно.
Старший из владельцев лавки пожал плечами и с усталым вздохом, с трудом удержав-шись от грубости, ответил:
— Desole, mais…[103]— и снова уткнулся в роман в мягкой обложке, который читал, когда за пятнадцать минут до того я вошел в лавку.
Я все еще не видел лица покупателя. Глядя на него со спины, я мог бы сказать одно: он невысок, волосы у него черные и жесткие, а тонкие руки — парень был в белой футболке без рукавов — покрыты пушком. (Ах, как же я обожаю пушок на руках!) Леди Путти? Лиа де Путти! Он, конечно, имел в виду Лиа де Путти, одну из тех звезд, что скользили, как бледные слабоумные призраки, по экранам немого кино. Сам того не заметив, я произнес ее имя вслух, заставив уже выходившего из лавки парня обернуться и благодарно улыбнуться мне. Мое сердце растаяло, а член напрягся.
Как выяснилось, ему было восемнадцать и приехал он из Сеула. Работал он, правда, в Токио — стажером-maquilleur[104]в фирме Эсте Лаудер, а в Париж был командирован на неделю прет-а-порте. Кроме того, оказалось, что он фэн (меня тронул столь изысканный вкус у такого молодого человека) самых экзотических звезд немого кино, как женщин — Лиа де Путти, Бригитте Хелм, Полы Негри, так и мужчин — Рудольфа Валентино, Рамона Наварро, Рода ла Рока, хотя, как я понял из его объяснений на очень неуверенном английском, он, естественно, предпочитал коллекционировать их изображения, а не смотреть фильмы с их участием. Я наблюдал, как он увлеченно листает бессистемные подборки потрепанных рекламных кадров, извлекая оттуда пополнение для собственной коллекции, а потом под взглядами цинично улыбающихся владельцев лавки помог ему выбрать из пригоршни мелочи, извлеченной из маленького синего бумажника, нужное количество монет.
Ким выглядел тощим, как гончая. Если возможно быть низкорослым и долговязым одновременно, то именно таким его и следовало бы назвать. Хотя я сразу понял, что он гей, ничего женственного в нем не было, даже когда он хихикал, а случалось это часто. Его французский оказался совершенно неразборчив, английский — ненамного лучше, так что первый раз в жизни я испытал глубокую благодарность «Берлицу» за используемый там метод общения. Что касается внешности, то спектр сексуальных вкусов, как известно, весьма широк, так что я не вижу смысла подробно описывать Кима: это было бы, пожалуй, и бесполезно, и контрпродуктивно; достаточно сказать, что он был «моим». Читатель может сам представить себе Кима в соответствии с собственными предпочтениями.
Когда мы вышли из лавки, я угостил Кима сандвичем и швепсом во «Флоре», и поскольку день у него был занят тем, что полагается делать гримерам на показах мод, мы договорились встретиться в девять вечера на площади Сен-Жермен-де-Пре.
Я попытался убить время в кино, но сюжет фильма начисто ускользнул от меня: слишком отвлекали меня сомнения в том, придет ли Ким на свидание, и воображаемые картины нашей близости, если все-таки придет.
Ким пришел. В кино, несмотря на свое беспокойство, я заметил, что в фильме, напыщенном и банальном голливудском вареве тридцатых годов, множество пейзажей южных морей на заднем плане. Так вот, торопясь по бульвару Сен-Жермен и увидев вдалеке одинокую фигурку Кима у входа в аптеку, я испытал ощущение, будто все вокруг — сама аптека, рю де Ренн, подсвеченная башня Мен-Монпарнас, заслоняющая небо подобно клавиатуре гигантского аккордеона, — всего лишь проекция кадра, снятого в чуждом и мрачном мире, к которому Ким — будущая звезда моего вечера — не принадлежит.
Поскольку на протяжении недели прет-а-порте Киму предстояло делить комнату с другим сотрудником своей фирмы в отеле на Правом берегу, мы отправились в «Вольтер», обманув бдительность ночного портье: сначала мы зашли в бар, а через полчаса проскользнули через безлюдную кухню наверх. Мне не разрешалось приводить в свою комнату гостей после десяти вечера, и меня несколько беспокоили те трудности, с которыми я мог столкнуться, провожая Кима ночью или на рассвете, но я сказал себе, что перейду этот мост (или брошусь с него), когда до него доберусь.
Оказавшись в моей комнате, Ким поразился скудности обстановки и спросил на своем очаровательном ломаном английском, может ли воспользоваться «туаретом», что я для себя перевел как «туалет». Я сообщил ему, что такового моему номеру не полагается, а ближайший ватерклозет — общий для двух этажей — расположен на лестничной площадке. Правда, сказал я ему с бешено колотящимся сердцем, он может воспользоваться раковиной в комнате, как я обычно и поступал. Ким хихикнул и тут же расстегнул пуговицы ширинки (сообщив мне, что «морния — это не эрегантно»), потом повернулся ко мне спиной и пустил холодную воду. Сначала, похоже, ничего не произошло. Ким снова хихикнул.
— Не поручается. На пубрике трудно, — вздохнул он, оборачиваясь ко мне с белозубой улыбкой.
Я больше не колебался. Подойдя к нему сзади, я взглянул на его вялый член, зажатый между большим и указательным пальцами, как шарик, который забыли надуть, и сказал (хоть и догадывался, что Ким не поймет):
— Мамочке не помочь?
Обхватив собственными пальцами основание члена Кима, я встряхнул его. Ничего. Я встряхнул сильнее. Снова ничего. Тогда левой рукой я отвернул кран на полную мощность, и неожиданно, блестя, как роса, хлынула моча — я чувствовал ее ток через тоненький шланг, его милый маленький шланг, — и Ким радостно засмеялся. Закончив, он сказал мне:
— Поградь его. — Так что я принялся гладить и гладил до тех пор, пока вялость не сменилась под моими осторожными пальцами напряжением.
Ким оставался в моей комнате до двух часов ночи и выскользнул, сумев не привлечь внимания ночного портье, — по крайней мере мадам Мюллер претензий мне не предъявила. Все время, что он провел со мной, Ким просто не мог удержаться — как случается с мальчишками его возраста, что геями, что нет, — чтобы не играть со своим членом, тянуть его и теребить, словно четки. Но ведь что на свете, как не пенис, свой или чужой, дает столь немедленное и длительное ощущение удовлетворения при одном прикосновении? Я помню, что подумал тогда: если бы Бог не имел в виду, что мальчишки будут играть со своими гениталиями, он не дал бы им руки как раз такой длины, чтобы дотянуться до промежности. Член — одно из чудес света; да что я говорю — это самое главное чудо света, — и мало что в мире может сравниться по чудовищной несправедливости с тем, что существуют миллионы и миллионы членов («миллионы и миллионы членов» — что может сравниться с этим божественным словосочетанием?), которые видит Бог, этот везучий всевидящий тип, но из которых мне суждено увидеть жалкую часть. Это тем более несправедливо, что наверняка в близком или отдаленном будущем наступит время, когда с изобретением какой-нибудь невообразимой пока что технологии каждый получит по крайней мере виртуальный доступ к гениталиям любого другого человека и станет с жалостью и удивлением оглядываться на невежественный двадцатый век как на век невероятных сексуальных лишений. Я вспомнил слова советского поэта-диссидента Андрея Вознесенского: говоря о ком-то из особенно реакционных членов тогдашнего Политбюро, он сказал — цитирую по памяти, — что их лица так отвратительны, что их лучше прятать в штанах. В то время так пошутить на публике требовало немалого мужества, не говоря уже об остроумии, но, боже мой, какое же это оскорбление самому таинственному предмету в мире! Этот метафорический, метаморфный член, смуглый, пахнущий мускусом мускул, этот желудь, скрывающий в себе могучий дуб, этот двусмысленный объект, одновременно комичный и величественный, который был бы мерзким уродством, если бы торчал из подмышки или, скажем, ноздри, но который на своем месте, на предназначенном ему месте, образует такой завораживающий треугольник с ногами и делает мужскую наготу настолько более интересной, настолько более непредсказуемой, чем женская! (Мужчина может мысленно раздеть женщину, но как, хотя бы с минимальной надеждой угадать, что скрывает выпуклость в его штанах, может женщина мысленно раздеть мужчину?) Скрывать лучшее произведение Бога под одеждой? Будь я всемирным диктатором, я осудил бы на смертную казнь любого, кто спрятал бы свой член в штанах! Я сделал бы обязательным для всех мужчин и мальчиков на планете, для всех неисчислимых миллионов, включая Вознесенского, подставлять свой голый пенис ветру! Я бы…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Буэнас ночес, Буэнос-Айрес - Гилберт Адэр», после закрытия браузера.