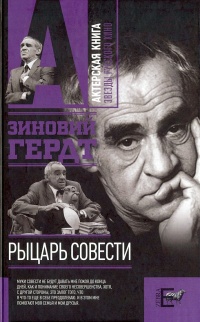Читать книгу "Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - Елена Скульская"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Не надо было Валере браться за руководство театром, не его это дело…
И сам тяжело болел, лежал в больнице, потом встал и пошел репетировать в Большом театре «Князя Игоря».
Артисты – не сукины дети! Они – дети в сиротском приюте, лица прижали к окнам, стирают дыхание со стекол: возьмите, пригрейте! Придут, возьмут, истерзают и бросят; так и они зарежут благодетеля, разве на них можно за это сердиться?!
– Валера, – как-то спросила я, – зачем ты сам все время поддерживаешь легенду о вашей с Высоцким дружбе (вражде), что ты всегда, мол, был вторым, вслед за ним?
– Все понимается, – ответил он, – не так, как пишется. Никогда я не говорил, что я второй по таланту, по мастерству. Я второй по качеству характера. Любимов как-то спросил меня, может, ты, Валерий, попробуешь что-нибудь поставить? Я тогда родил формулу: я по своей природе, по характеру – ведомый, второй. Не ведущий. Это терминология военная. Летит ведущий в эскадрилье – а за ним несколько самолетов, которые ведут бой; ведущий, первый, отходит в сторону, а остальные вступают в бой. И по статистике ведомые погибали гораздо чаще. Потому что они были действующие. Я люблю подчиняться воле, говорю я Любимову. Режиссер навязывает свою волю всем окружающим. Я единоличник, я подчиняюсь воле. Что это значит? Я пытаюсь вас понять и всю вину перекладываю на себя. По дарованию я себя всегда считал первым. Высоцкий обо мне сказал: «Золотухин хвалит, потому что он знает, что он – лучший»; это было, когда мы смотрели материал «Интервенции».
В Володиных словах была огромная психологическая угадка. Но опять же понимают не то, что написано. А то, что хотят. Я пишу: да, я завидую Владимиру Высоцкому, но не чистой, а самой черной завистью, какая только бывает, я, может быть, так самому Александру Сергеевичу Пушкину не завидую, как Высоцкому… Все хватаются за первую часть фразы и опускают вторую… Как я мог завидовать Высоцкому, если у меня был, например, Кузькин – не сыгранный, но известный всей Москве, создававший мне легенду. Я, кстати, двадцать один год ждал часа, когда смогу в этой роли – в запрещенной инсценировке по повести Можаева – выйти к зрителю, и дождался…
«Дневники» Валерия Золотухина – затяжной, тяжелый, мучительный приступ правды. Правды, которая уже не ищет и не хочет справедливости; и, против всех ожиданий, именно эта дикая, ненужная правда, именно эта постыдная нагота оказалась прекрасной и жизнетворной. Разграбленная жизнь стала наливаться дородством смысла; утраченные привязанности стали обустраиваться уютом терпения и долга; заканчивается одна тетрадь, открывается другая; у Бога страниц много.
Золотухин-писатель окружает Золотухина-артиста, как волка флажками, и затравливает, и заставляет жить, жить, жить дальше. И задыхаешься, читая, и обжигаешься, читая, и собственную жизнь, мучась жаждой, начинаешь выжимать, как камень, в поисках влаги.
И все-таки, не доверяйте до конца этой правде. Это – рафинированная проза, выполненная в жанре правды, в жанре исповеди, в жанре дневника для самого себя. Золотухин – писатель крупный и серьезный, строящий дневниковую прозу на приеме двойничества. Писатель знает, что только болотные, торфяные, табачные залежи тоски и неудачи, отчаяния и безнадежности могут породить текст, могут сложить слова в строчку, дышащую свежестью и теплом; а артист знает, что играть на разрыв аорты, да еще с кошачьей головой во рту можно только в шампанских брызгах успеха, в переполненном зале, в последнем, звенящем напряжении струны, берущейся за руки с другими струнами в аккорд; артист знает, что тоска мешает жить в согласии с ремеслом, мешает жить, то есть мешает выйти на сцену; а писатель помнит, что только помехи жизни, сильные, страшные помехи, когда изображение остается лишь выключить, – помехи одни и помогают писать.
Писатель и артист, хроникер и герой, персонаж, ищущий автора, и автор в поисках персонажа – в чем, собственно, состав трагедии, проливающей кровь из страницы в страницу тома?! А расцарапанная ногтями душа? А ужас равнодушия, когда глядишь на тех, кого когда-то обнимал, обожал, прижимал к себе на вечность? А устройство глазного хрусталика, видящего в самом дорогом, милом, родном изъяны фальши и тщеславия? А неизбывное желание простить и принять, смириться и забыть обиды, а все равно обижать и мучить, а потом вновь раскаиваться? А вы думали, на плахе жить приятно и легко?!
Мой Телемак,
Троянская война окончена. Кто победил – не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов вне дома бросить могут только греки…
В 1994 году Валерий Золотухин приехал с концертом в Таллин, я опубликовала о вечере заметку, где, в частности, говорилось и о книге «Дребезги». В ответ пришло письмо: «В статье есть большая угадка, выдан вексель, постараюсь его оплатить. Вы просто как бы навязали, заткнули мне его в карман, и некуда деваться, да и не надо – надо оплатить, – делов-то на копейку, и это трудное самое, но заманчивое… Я хочу так уметь писать. У меня болезнь – у меня строка разъезжается, разваливается часто, как пьяная (но красивая) баба в широких санях…»
Спустя несколько лет. Позвонил Валерий Золотухин: «Лиля, пришли мне ту фотографию, которую сделала твоя дочка, когда вы вместе с ней приходили ко мне за кулисы на гастролях в Петербурге, ту, где мы с тобой сфотографировались обнявшись. Мне нужно для книги». Я сказала, что фотография получилась плохая. «Это ты говоришь как женщина или как полиграфист?..»
Действительно, мы с Маринкой пришли к Золотухину в гримерную во время гастролей Таганки в Питере. Я сказала дочери: хочешь сфотографироваться с гением? Золотухин закричал: «Замолчи, здесь фанерные перегородки, не дай Бог услышит Любимов, у нас в театре один гений» – и на всякий случай прокричал еще громче: «Юрий Петрович, не слушайте ее!» И тут же, с пинг-понговой быстротой: «Ой, Лиля, как я бестактен, ведь под гением ты, вероятно, подразумевала себя…»
И проверяет – держу ли реплику.
И пишет на следующей книге: «Обожаемой Елене Скульской с волнением и трепетом передаю на суд и прочтение. Люблю, читаю, восхищаюсь». Прижав эту книгу к груди, я сидела в первом ряду на спектакле по Петеру Вайсу «Марат и Маркиз де Сад». Валера Золотухин – Маркиз де Сад – в халате психиатрической больницы Шарантон подошел ко мне во время представления, взял книгу и прокомментировал: «Хорошая книжка, нам здесь такие не дают читать…» Сидевший рядом со мной знаменитый польский режиссер наклонился к соседке: «Отличный ход!»
На «Бориса Годунова», где Золотухин играет самозванца, я страшно опоздала, попав в московскую пробку; меня, в виде исключения, все-таки впустили в зал. Неловко хлопнула дверь. Зрители, привыкшие к таганковским неожиданностям, обернулись.
произнес Золотухин, приветствуя меня со сцены и включая в спектакль мой невежливый приход.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - Елена Скульская», после закрытия браузера.