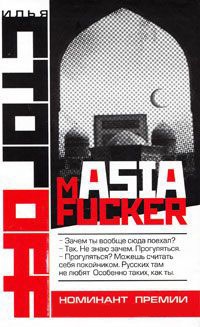Читать книгу "Дети мои - Гузель Яхина"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Медицинская сестра в белом, слегка измятом за сутки дежурства халате дремала, неудобно откинув голову на спинку высокого кресла в полотняном чехле и зябко скрестив ноги в обрезанных валенках. Топили в Горках щедро – паровое отопление работало превосходно, без перебоев, еще со времен бывшего хозяина имения генерал-майора Рейнбота; но больному был предписан свежий воздух, и каждый час медсестра, набросив на плечи пуховый платок, открывала фортки, впуская в спальню морозные вихри вперемешку с мелкими ледяными иглами, – оттого в комнате всегда было прохладно.
Где-то в глубинах дома тяжело ударили часы, и медсестра проснулась. Пахло йодом, кипяченым молоком, духом страдающего пятидесятитрехлетнего тела – пора проветривать спальню. Поднялась; осторожно ступая по скрипучему, давно не тертому паркету, прошла к окну. С усилием потянула на себя плотную деревянную раму: остро пахнуло свежим снегом. Отчетливо послышался шум мотора, и скоро у главного подъезда остановился автомобиль. Из машины выскочила невысокая плотная фигура и, прижимая к ушам мохнатую шапку, поспешила в дом.
Медсестра отпрянула от окна. Перекрестилась украдкой, торопливо взглянув из-за плеча на спящего больного. Закрепила фрамугу на железном крючке и метнулась обратно в кресло; по пути уронила шаль – та зацепилась за жардиньерку с обмякшим кустом гибискуса, – но возвращаться и поднимать побоялась. Так и замерла, вжавшись позвоночником в жесткую спинку и ощущая под чехлом обильные выпуклости резного узора.
Она знала: скоро одна из боковых дверей приоткроется – как всегда, совсем немного, на пол-ладони. Это будет дверь в бывший кабинет хозяина, нынче отданный под помещение для медицинского персонала. Медсестра, холодея от неловкости, вспомнила, что там на столе стоит ее открытый ридикюль со сменным бельем и чулками, а на оттоманке лежит приготовленный для прачечной вчерашний халат, залитый куриным бульоном, который так и не удалось скормить больному. Почему-то вечерний гость во время своих неожиданных визитов любил бывать именно в той комнате.
Он приезжал ближе к закату, а то и в ночи. Отмахивал тридцать верст от Москвы – в теплые дни на обычном автомобиле, в холода и снегопады на диковинном гусеничном, – чтобы постоять несколько минут в соседней комнате молча, а затем уехать. Не взглянув на вождя, не переговорив с докторами или с его на глазах седеющей, измученной ожиданием конца женой. Зачем был, чего хотел? “Черти его носят”, – буркнула однажды в сердцах кухарка – и зажала рот ладонью, огляделась испуганно, молитву забормотала. Остальные в доме помалкивали: гость внушал желание опустить глаза, прикусить язык, убраться с дороги подальше, спрятаться.
Вот и сегодня, как только он возник на пороге усадьбы, чьи-то руки протянулись из темноты, бережно сняли с плеч тяжелую, вытертую на локтях шинель, приняли ушастый малахай длинного меха, смели снег с валенок. Двери распахнулись одна за другой, в полутьме уважительно застучали по мраморному полу подкованные железом сапоги, чья-то спина услужливо замелькала впереди, показывая дорогу. Возник из ниоткуда подстаканник, тихо звякнула о стекло ложка, завращалась в крутом кипятке разбухающая чайная россыпь вперемешку с осколками сахара. В бывшем кабинете вождя погас свет (в доме знали, что гость предпочитает темноту), и в тот же миг почтительные руки, спины и головы исчезли – гость остался один. Он толкнул рукой дверь, ведущую в спальню, – дверь приоткрылась – и прислонился замерзшей спиной к теплой трубе отопления.
Было слышно лишь редкое дыхание больного, надсадное и хриплое, словно на груди у него лежал большой мельничный жернов. Иногда в глубине тела что-то булькало и клекотало, вскипало, подкатывало к горлу и грозило вылиться наружу кашлем или перхотой, потом уходило обратно. Гость стоял, смотрел в окно на гаснущий закат и слушал. Он для этого и приехал – слушать, как умирает вождь.
Кто-то в Политбюро считал, что вождя погубили немцы. Все эти фёрстеры, клемпереры, нонне, борхардты, штрюмпели, бумке – заполошная каркающая стая, налетевшая из Германии по первому же зову сиятельного больного. Ведь сам говаривал: для русского человека немецкие врачи невыносимы. Говаривал – и приглашал, и встречал, и платил немыслимые гонорары, с надеждой заглядывал в глаза, ложился на операционный стол, послушно глотал лекарства… Выбрал себе умирание под надежной немецкой опекой. Полтора года обмороков, ночных кошмаров, жестоких судорог, растущей немощи, конвульсий и – ошибочных диагнозов. Доктора так и не сумели определить истинную причину болезни. Эскулапы рейнские, сукины дети.
Гость прикрыл глаза. Хрипение вождя становилось то чуть громче, то тише, и в этих колебаниях можно было уловить подобие какой-то элегической мелодии.
Нет, врачи не виноваты. Они ограничены собственным знанием, бродят в нем, как овцы в загоне; их взгляд зашорен и приземлен, прикован к человеческому телу и приговорен всегда рассматривать его, целиком или кусками, снаружи или изнутри: в пенсне, под лупой, под микроскопом, под увеличительным стеклом на операционном столе; взгляд, привыкший вгрызаться и углубляться, но не воспарять. Чтобы понять происходящее здесь, нужны не очки, а цеппелин или, лучше, аэроплан. Только поднявшись ввысь, можно что-то разглядеть: посмотреть на этот чудом сохранившийся в Гражданскую особняк с классическими колоннами, на комнату с эркером, на мебель, стыдливо прикрывающую фальшивую позолоту пыльными чехлами, на пропитанную по́том кровать с резным изголовьем – и увидеть, что умирает среди этого дешевого великолепия вовсе не вождь. Это она лежит сейчас под белой, словно уже погребальной простыней; она сипит и стонет устало, не в силах даже повернуть на бок свое измученное тело; она – идея мировой революции.
Рожденная гением Маркса, она всколыхнула Европу и перевернула Россию. Лишь ограниченные умы могут полагать, что исторические события вершат личности. Историю движут идеи. Они не только овладевают массами и приобретают необходимый общественный вес; они облекаются в плоть и кровь конкретных, не всегда подходящих для этого людей. И революцию в России свершила идея, воплотившись, по стечению обстоятельств, в маленьком, не очень здоровом человеке с повышенной работоспособностью и незаурядным ораторским талантом и пронеся его, подобно комете, через все трудности и опасности: аресты, ссылки, предательства, покушения. Не было бы его – был бы у страны другой вождь, выше или ниже ростом, светлее или темнее волосами. Сегодня же тем, кто умеет смотреть на мир с высоты аэроплана, – духовным лицам, поэтам, философам (а в разные периоды жизни гость относил себя и к первым, и ко вторым, и к третьим) – стало ясно: сбыться гениальной идее не суждено. И потому тот, в ком она жила, умирает. Он больше не нужен истории. Все эти склянки, тесными рядами стоящие на лакированной прикроватной тумбочке, доктора, населившие дом, медсестра, испуганно вжавшаяся в кресло и полагающая, что вечерний гость ее не замечает, – это все мишура, предсмертная бутафория, тщетные усилия очистить совесть соратников и родных.
…Медсестра смотрела, как в открытую фрамугу влетает легкий медленный снег и растворяется в тепле комнаты. Под окном мерно тарахтел автомобиль – водитель не выключил мотор и ожидал своего пассажира, который обычно долго не задерживался. Сегодня же визит отчего-то затянулся. Пора было закрывать фортку, но обнаруживать свое присутствие гостю не хотелось, и медсестра продолжала неподвижно сидеть, чувствуя, как уличный холод наполняет спальню. Пальцы на подлокотниках кресла заледенели, и кончик носа тоже. Более всего озябли спина и плечи, где-то в глубине позвоночника начиналась мелкая дрожь. Ее оставшийся лежать на полу пуховый платок уже усыпало белым.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дети мои - Гузель Яхина», после закрытия браузера.