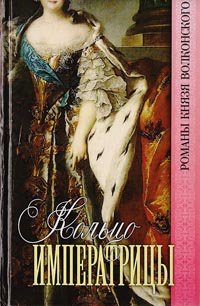Читать книгу "Франц Кафка - Вальтер Беньямин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Раз уж Вы сами называете эту работу «неготовой», с моей стороны было бы пустой да и неразумной вежливостью Вам в этом противоречить. Вы слишком хорошо знаете, насколько в этом случае значительное сродни фрагментарному, что, однако, не исключает возможности того, что места «неготовности» могут быть указаны – быть может, как раз потому, что работа эта предшествует «Пассажам». Ибо именно в этом и заключается ее «неготовость». Взаимоотношения между праисторией и современностью еще не возвысились до понятия, а удачливость интерпретации Кафки в конечном счете неминуемо зависит от этого. В этом смысле первый «холостой пробег» встречается в самом начале, в цитате из Лукача и в антитезе между эпохами и вечностями. Эта антитеза не может быть плодотворной просто как голый контраст, а лишь диалектически. Я бы сказал так: для нас понятие исторической эпохи как таковое неэкзистентно (как в той же малой мере мы знаем декаданс или прогресс в прямом смысле этих слов, который Вы здесь сами и разрушаете), а экзистентно только понятие вечности как экстраполяции окаменевшей современности. И я знаю, что по части теории Вы первый и радостней других меня в этом пункте поддержите. Однако в «Кафке» понятие «вечность» осталось абстрактным в гегелевском смысле (да будет между прочим замечено: поистине удивительно и, вероятно, не вполне Вами осознано, в сколь тесной связи стоит эта Ваша работа к Гегелю. Укажу только на то, что место о Ничто и Нечто острейшим образом сопряжено с первым гегелевским развитием понятия Бытие – Ничто – Становление, а что когеновский мотив обращения мифологического права в вину воспринят как от самого Когена, так и из иудаистской традиции, но, конечно же, и из гегелевской философии права). Все это, однако, свидетельствует не о чем ином, как о том, что анамнез или «забвение» праистории у Кафки толкуется в Вашей работе в архаическом, диалектически не переработанном смысле, что как раз и придвигает эту работу к началу «Пассажей». Я последний, кто имеет право тут Вас упрекнуть, ибо мне слишком хорошо известно, что точно такой же рецидив, точно такая же недостаточность артикуляции понятия мифа присуща и мне в моем «Кьеркегоре», где это понятие снимается как логическая конструкция, но не конкретно. Но именно поэтому я вправе на этот пункт указать. Кстати, недаром из всех толкуемых Вами историй одна – а именно история с детской фотографией Кафки – остается без толкования. Ибо истолкование ее было бы эквивалентно попытке нейтрализовать вечность с помощью фотовспышки. Этим же я намекаю на всевозможные мелкие несообразности in concreto[190] – симптомы архаической скованности, не проведенной еще здесь мифической диалектики. Самая важная из них – это толкование Одрадека, ибо всего лишь архаично понимать его возникновение из «первомира и вины», а не перечесть его как тот самый элемент пролегоменов, который Вы так настоятельно зафиксировали до проблемы писания. У отца семейства ему самое место: разве не есть он его забота и его опасность, разве не намечено как раз в его образе снятие отношений вины со всего живого, разве не есть забота – вот уж где поистине с головы на ноги поставленный Хайдеггер – некий знак, больше того – твердая порука надежды, как раз в упразднении самого дома? Разумеется, Одрадек как оборотная сторона вещного мира есть знак искаженности, но в этом качестве и мотив трансцендирования, а именно устранения границ и примирения между органическим и неорганическим или мотив снятия смерти: Одрадек «выживает». Иначе говоря, вещественно исковерканной, вывернутой наизнанку жизни обещано высвобождение из природных взаимо связей[191]. Здесь нечто больше, чем просто «облако», а именно диалектика, и образ облака надо не просто «разъяснить», но именно разложить диалектически, продиалектизировать – в известном смысле дать параболе, то есть облаку, излиться дождем; это и остается сокровеннейшей задачей всякой интерпретации Кафки, равно как и предельно четкая артикуляция «диалектического образа». Нет, этот Одрадек столь диалектичен, что впору и впрямь сказать о нем: «Всего-то ничего, а результат блестящий»[192]. К тому же комплексу относится и место о мифе и сказке, в котором чисто прагматически надо бы первым делом придраться к утверждению, в котором сказка якобы выступает как «перехитрение» мифа или разрыв с ним – словно бы аттические трагики были сказочниками, кем они являются в самую последнюю очередь, и как будто ключевой образ сказки – не домифологический, нет, даже безгрешный мир, каким он и предстает нам в вещно зашифрованном виде. В высшей степени странно, что все фактические «ошибки», если в таковых работу позволительно упрекнуть, начинаются именно отсюда. Так, если, конечно, меня самым коварнейшим образом не подводит память, надписи на теле приговоренных к экзекуции в «Исправительной колонии» наносятся машиной не только на спине, но по всей поверхности кожи – ведь там даже идет речь о том, как машина их переворачивает (данный переворот – сердце этого рассказа, ибо сопряжен с моментом понимания; кстати, как раз в этом рассказе, основной части которого присуща определенная идеалистическая абстрактность, как и афоризмам, по праву Вами отвергнутым, не следовало бы забывать о намеренно диссонирующем финале с могилой губернатора под столиком кафе). Архаичным представляется мне и толкование театра под открытым небом как деревенской ярмарки или детского праздника – образ певческого праздника в большом городе 80-х годов был бы, безусловно, вернее, а пресловутый «сельский воздух» Моргенштерна всегда был мне подозрителен. Если Кафка и не основатель религии (а он – о, насколько Вы тут правы! – конечно же, никакой не основатель), то он, разумеется, и ни в каком смысле не поэт иудейской родины. Абсолютно решающими мне представляются здесь Ваши мысли о пересечении немецкого и иудейского. Привязанные крылья ангелов – это не их недостаток, а присущая им «черта», крылья, эта допотопная мнимость, есть сама надежда, а иной надежды, кроме этой, не дано.
Именно отсюда, от диалектики мнимости как от доисторического модернизма, как мне кажется, всецело исходит функция театра и жеста, которую Вы первым столь решительно, как и подобает, поставили в самый центр. Лейтмотивы «Процесса» именно такого рода. Если же искать суть жеста, то искать ее, как мне кажется, надо бы не столько в китайском театре, сколько в «модернизме», а именно в отмирании языка. В кафковских жестах высвобождается тварь живая, в сознании которой слова отняты, отторгнуты от вещей. Вот почему она, безусловно, и открыта, как Вы говорите, глубокому раздумью или почти молитвенному изучению окружающего; что до «опробования», то мне кажется, ей это непонятно, и единственное, что представляется мне в работе чуждым привнесением, – это подключение категорий эпического театра. Ибо этот всемирный театр, поскольку играют в нем только для Бога, не терпит никакой точки зрения извне, для которой он был бы всего лишь сценой; как невозможно, по Вашим собственным словам, повесить в раме на стене настоящее небо вместо картины, столь же мало возможна и сама сценическая рама для такой сцены (разве что это будет небо над ипподромом), а посему к концепции мира как «театра» избавления, в самом безмолвном подразумевании этого слова, конститутивно принадлежит и мысль, что сама художественная форма Кафки (а отрешившись от идеи непосредственной поучительности, как раз художественную форму Кафки проигнорировать никак нельзя) к театральной форме стоит в крайней антитезе и является романом. Так что тут Брод с его банальным воспоминанием о кино, как мне кажется, куда более точен, чем сам, вероятно, способен догадаться. Романы Кафки – это не режиссерские сценарии для экспериментального театра, ибо в них принципиально не подразумевается зритель, способный в эксперимент вмешаться. Они есть нечто совсем иное – это последние, исчезающие пояснительные тексты к немому кино (которое совсем не случайно почти в одно время со смертью Кафки исчезло); двусмысленность жеста есть двузначность между погружением в полную немоту (с деструкцией языка) и возвышением из нее в музыку; так что, по-видимому, наиболее важное звено в констелляции «жест – животное – музыка» – это изображение безмолвно музицирующей собачьей группы из «Исследований одной собаки», которые я без малейших колебаний ставлю в один ряд с «Санчо Пансой». Возможно, подключение их в сферу Вашей работы многое прояснило бы. Насчет фрагментарного характера позвольте только еще заметить Вам, что соотношение между воспоминанием и забвением, безусловно центральное по своему значению, мне у Вас еще не вполне ясно и, вероятно, могло бы быть сформулировано с большей однозначностью и твердостью; курьеза ради позвольте мне еще в связи с Вашим рассуждением о «бесхарактерности» вспомнить, что я в прошлом году написал маленькую вещицу под названием «Под одну гребенку», где я таким же образом трактовал распад индивидуального характера как явление вполне позитивное; а как еще один курьез позвольте Вам поведать, что прошлой весной в Лондоне я написал вещицу о бессчетном количестве пестроцветных разновидностей лондонских автобусных билетов, которая загадочным образом соприкасается с местом о цветах и красках из «Берлинского детства»[193], которое мне показала Фелицитас. А прежде всего позвольте мне еще раз подчеркнуть значение Вашей мысли о внимании как молитве. Я не читал ничего более важного у Вас – и ничего, что давало бы столь же точное представление о самых сокровенных мотивах Вашей мысли.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Франц Кафка - Вальтер Беньямин», после закрытия браузера.