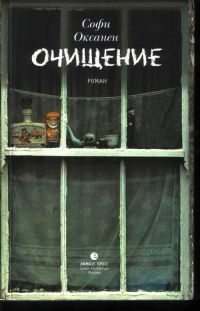Читать книгу "Утраченное утро жизни - Вержилио Феррейра"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И тут кто-то постучал в дверь, постучал трижды, отрывисто. Я соскочил с кровати и пошел открывать.
— Это так ты болеешь?
— Да, да, сеньора дона Эстефания, мне было плохо.
— Не ври! — закричала она, дрожа от злости и почти визжа. — Не ври! Совсем недавно я наведывалась к тебе в комнату, и тебя не было. Каролина! — крикнула она в ее сторону. — Где, как ты думаешь, был он?
— Я не знаю. Я видела, как он шел из сада…
Я метнул взгляд в Каролину. Но она с тем же спокойствием продолжала:
— Видела, шел из сада. А вот что он там делал, не знаю.
— Слышишь? — воскликнула сеньора, обращаясь ко мне. — Я не выношу лжи! Изволь знать: не выношу! Так ты был или не был в саду?
Я опустил свои уставшие глаза. Но в этот самый момент услышал за своей спиной голос доктора Алберто:
— Это я, мама, велел ему пойти в сад. Он жаловался на голову, и я сказал, чтобы он пошел в сад.
Дона Эстефания умолкла, испытывая неловкость, но тут же взглянула на сына и спросила:
— Тогда почему же ты не сказал мне об этом сразу, когда я тебе рассказала о случившемся в церкви?
— Потому что я не придал этому никакого значения. А теперь вот вижу, что зря. Но именно я сказал ему, чтобы он побыл на воздухе.
* * *
Несколько дней спустя я вернулся в семинарию. Но теперь я вез с собой целый воз демонов, которые мучили мою душу и тело. С опущенной головой, плечами и впалой грудью я, как никогда раньше, видел, что мир враждебен. Алчная худоба лица и всего моего иссохшего тела, казалось, постоянно кричала о моей внутренней тревоге. Любой обращенный на меня взгляд повергал меня в трепет, особенно женский. И не то чтобы меня волновал жар их тел, а скорее приводила в ужас их независимость. Я понимал, что любовь — это борьба, но понимал и то, что, будучи служителем Божьим, я не буду иметь права бороться. Внезапные порывы ярости иногда позволяли мне победить мое уныние. И, отдаваясь им, как наказанию, я чувствовал, что стоит только разжать кулак и я получу свою мечту — свободу. Однако силы покидали меня слишком быстро. И я впадал в усталость и ощущал себя на обочине дороги, говоря взглядом: прощай, жизнь. Так медленно все от меня отдалялось и покидало меня навсегда, но теперь меня пугала даже власть над самим собой, и я испытывал странное удовольствие не от завоевания жизни, а только от желания иметь это удовольствие. Ничто не доставляло мне радости: ни хлеб, который я ел, ни тепло моего тела, ни проклятия, которые обжигали мой рот. Поэтому я замкнулся в своем отречении, сел в грузовичок и сказал еще раз: прощай, деревня! Очень хорошо помню это четко очерченное холодное мартовское утро. Непрекращавшийся ветер выкристаллизовывал все вокруг, подметал песок на дороге. На ветвях голых деревьев уже проклевывались почки, ручейки звенели, как серебряные монеты холодной чеканки, стальная хитрость распускала все по нитке до очевидности. Хорошо помню это утро и то, как я, ощутив его ясность, вдруг, не знаю, как объяснить, почувствовал наконец, как легко и прекрасно быть живым. Между тем очень скоро все было смято глухим шумом колес машины. И снова я увидел себя одиноким, растворенным в долгом отсутствии. Неподвижность всего, что находилось внутри машины, за окнами которой быстро и непрерывно появлялись и исчезали деревья, дороги, жалкие домишки, что выскакивали на дорогу, создавала странное ощущение подвешенности во времени, которое испытываешь, находясь в темном лифте. И получалось так: что бы ни мелькало за окном машины, все уносило частичку моего внимания и оставляло меня пустым и растерянным. Толчея на коротких остановках на какой-то миг меня собирала. Но тут же, как только машина опять трогалась, я опять терял себя. И так до поворота на Селорико, где мной целиком завладели воспоминания о Гаме, который, казалось, вошел в машину, как это бывало раньше, и сел рядом. Крепкого телосложения, сумрачный Гама имел вид пленника. На нем все еще была семинаристская одежда, он ее, должно быть, донашивал, скорее всего именно так, и хотя галстук был красный или желтый, выглядел побежденным. Окруженный презрением и страхом, он чувствовал себя плохо и казался несчастным от обретенной им свободы, точно он ее не заслуживал. Мы долго разговаривали, с грустью перебирая прошлое, чувствуя себя по уши в грязи. Но потом машина стала брать подъем на Гуарду, и взгляд мой затерялся в больших пограничных горах, за которыми уже не было видно моей родной деревни. В этот самый момент и исчез из моих воспоминаний Гама. Однако я все же проделал тот же путь, как это бывало с Гамой: поел на станции и поздоровался с коллегами, когда сел в поезд. Однако никто не спросил меня о Гаме. Ни через год, ни позже, ни теперь. Никто никогда не вспомнил его храбрость. А между тем я уверен, что именно Гама назвал их жизнь не иначе, как тяжким крестом.
Скоро летние вечера под вечным небом стали опять удлиняться. И даже такая малость принесла мне столько нового и прекрасного, что я почувствовал себя почти спокойно. Теперь ночь была короткой, издалека приходил аромат созидания новой жизни, а утра — светлые, вселявшие надежду. Очень хорошо помню рождение дня по ту сторону больших семинарских окон, возвещавшее начало утренних молитв и ощущение своей энергии в утренней свежести. Помню хорошо и спад летнего зноя и, наконец, покой после захода солнца.
Когда пришел май месяц, нами снова овладел странный подъем жизненных сил и стремление к свободе с присущим восторгом и нежностью. В маленьком семинарском дворе снова благоухали фиалки, окрестные поля оделись в цвет надежды, а с приходом сумерек в жарком воздухе чувствовалось эхо короткого летнего дня. Вечер посвящался поклонению месяцу Девы Марии с подношением ей цветов, огней и гимнов. Это поклонение было красивым, литературным, как и Рождество, елей которого мы частенько использовали в наших сочинениях. Помню так же ясно, как печалились мы, когда наступал последний день поклонения и мы читали молитву «Прощай». Ореол очарования, далекая нежность рассеивались в воздухе и исчезали. И мы ощущали себя одинокими на пустынной горе, с грустью прощавшимися не знаю с какой иллюзией, но мягкой и молчаливой.
Когда же приходила июньская жара, мы молились по четкам на открытом воздухе, встав по четверо в ряд и образовав длинную колонну где-нибудь под тонкими каштанами, где обычно проходили переменки, или на вершине холма, подставляя лицо вечернему ветру. День, задыхаясь от усталости, медленно клонился к вечеру. Больше всего мне нравилось молиться, стоя на горе и охватывая взглядом всю долину и белую наготу семинарского здания, одиноко стоящего там внизу. И мне казалось, не знаю, как сказать, что все во мне молилось совсем не небу, которое всегда одинаково далеко, а печали вечера, который приносил мне отчаяние. Мрачные каденции возносились столбом вверх, парили какое-то время и потом рассеивались ветром. Подхваченный ими, я, паря над большим пространством, как и звук колокола, который я уже не слышал, тоже рассеивался… Или поспешно, если вдруг в этот час внизу проходил поезд и давал веселый гудок, уходил с ним, держась за его руку, пока в очередной раз не возвращался перепуганный незнакомыми землями. Следом за мной неслись весомые и плотные молитвы, затмевавшие небо. А вверху, в небе, закрывались два умиротворенных глаза и две большие руки простирались над землей. И темнота спускалась на мир, как божественный дар. Тогда мы осеняли себя крестом и спускались с гор. Я искал глазами Гауденсио, но мы почти не беседовали, так как дневная усталость не позволяла нам даже открыть рта.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Утраченное утро жизни - Вержилио Феррейра», после закрытия браузера.