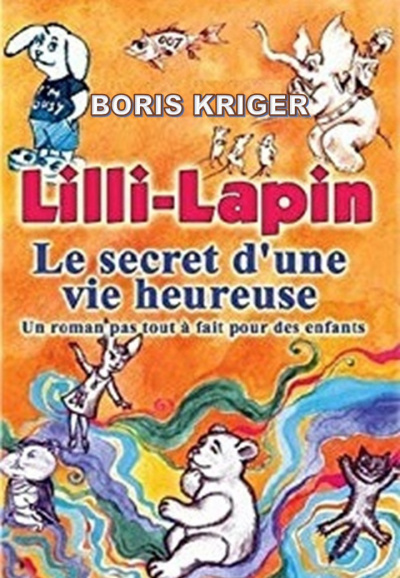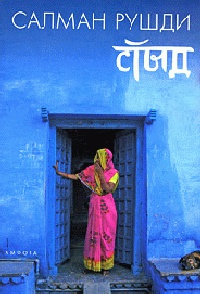Читать книгу "Книга стыда. Стыд в истории литературы - Жан-Пьер Мартен"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как не чувствовать себя вечно травмированным среди собранных вместе обнаженных тел? Именно поэтому Фриц Цорн, будучи школьником, так ненавидел гимнастику: «Там мне приходилось обнажаться в самом буквальном смысле этого слова и демонстрировать свое тело, казавшееся мне уродливым. Естественно, я вдобавок не осмеливался принимать душ после занятий по гимнастике, потому что слишком стыдился своей наготы. В течение моих школьных лет к этому первому стыду мало-помалу прибавился второй: я понял, что мои товарищи явно не испытывали никакого стыда и относились к своему телу гораздо нормальнее, чем я, так что мне оставалось только признать, что они опережали меня, что в этом отношении я отставал от них, я их не стоил». В окружении других, при постоянном столкновении и сравнении с ними, обнажении перед ними, чувство стыда укрепляется, удваивается за счет одиночества, становится основой душевного состояния, которое воспринимается как не похожее ни на чье другое.
Говоря о Рембо и Жарри, Жюльен Грак упоминает «разрушительное злопамятство по отношению к проклятым местам (таким, как Шарлевилль и Ренн), где томилась в заточении их юность». Значит, интернаты и прочие навязанные места коллективного проживания — не что иное, как душегубки? машины для обезличивания? Но индивидуальность порой нуждается в препятствиях: против чего должна она восставать, как не против окружающего конформизма? Необъятное визионерское воображение может стать прочнее благодаря коллективному унижению и принуждению; случается, что индивидуальность выковывается именно там, где ее стараются подавить, в тесноте пансионов. Вспомните Бальзака (который в восьмилетием возрасте был изгнан в коллеж с очень суровыми порядками, засыпан наказаниями, многократно запирался на несколько дней в карцере), Лотреамона, Рембо, Цорна, Мишо, Бернхарда, Поуиса, Модиано… Или, скажем, Бодлера, внезапно отброшенного далеко от матери ее новым замужеством, отправленного в пансион у Лазегов и написавшего по этому поводу: «Может быть, это благо — оказаться обнаженным и депоэтизированным: яснее понимаешь, чего тебе не хватало». И кто когда-нибудь сможет рассказать, что пережила Маргерит Донадьё, будущая Дюрас, в сайгонском пансионе, обойденном примечательным молчанием в ее в высшей степени автобиографической книге?
Опыт стыда в окружении других как свидетельства необыкновенного писательского призвания: вот о чем с такой точностью рассказывает Джон Каупер Поуис. В пансионе школы в Шерборне ребенка терроризировала толпа смутьянов, распахнувших настежь «священные врата» его учения: «К вечному моему стыду (толпа и поныне внушает мне непреодолимый страх), испуг пригвоздил меня к месту. […] Быть неспособным пустить в ход кулаки для необходимой обороны, неспособным прийти в ярость на глазах у всех, неспособным с честью выйти из ситуации, которая требовала лишь проявить немного естественной храбрости — от осознания всего этого почва ухолила у меня из-под ног как никогда раньше».
Как выбраться из этой ситуации? И вдруг на него снисходит озарение: он произнесет защитительную речь перед всеми своими соучениками. «Да, да, именно так: я буду защищаться, признаваться, я выкуплю себя словами!» Перед собранием учащихся он раздевает себя донага, выставляет напоказ свои унижения, беды, проступки, доходит до того, что упоминает о своей неприятной манере жевать передними зубами. Поток слов бьет ключом из его безволия, «глупости», подавленной гордыни. Неслыханное событие, «повергшее учеников в шок». Окончание его речи было встречено мертвой тишиной, за которой последовал гром одобрительных возгласов. Покоренная аудитория должна была выразить себя через отношение к нему. Именно так, уверяет Поуис, он и «стал поэтом» — «между звездами и писсуаром». Поверим ему на слово, точнее, на писание. Рассказ Поуиса — прекрасная притча о превращении стыда в литературу. Унизительный опыт умирает в стихотворении, которое (как у Яромила, героя романа Кундеры «Жизнь не здесь») становится «чаемой возможностью второй жизни».
И тем не менее воображаемый стыд детства будет бередить память писателя. Его вымыслы, навязчивые идеи и послевкусия ныне и присно станут терзать его творения. Преодоленная слабость придаст дополнительные силы литературе как самовымыслу. В исправительной колонии Меттре Жене, по его словам, «ужасно стыдился своей остриженной головы, отвратительного наряда и своего заключения в этом гнусном месте» и ощущал «презрение других колонистов, более сильных и более жестоких»[55]. Его решение стать писателем — это ответ, механизм выживания, выработанный, чтобы противостоять воспоминанию о реальном или вымышленном страдании. Вы считаете меня негодяем, трусом, предателем, вором, педиком? Вы готовы из-за этого превратить меня в изгоя? Я не обману ваших ожиданий. Я сделаю из этого чудо исключительности. Моя победа будет словесной.
Нагое отрочество
Я подурнела, мой нос сделался красным; на лице и затылке появились прыщи, которые я нервно теребила. Моя мать, измученная работой, одевала меня кое-как; мешковатые платья еще сильнее подчеркивали мою неловкость. Запертая в своем неудобном теле, я погружалась в фобии: например, я не могла пить из стакана, из которого уже пила. У меня начался тик: я беспрерывно пожимала плечами, крутила нос. «Не расчесывай прыщи, не крути нос», — повторял мне отец. Своими беззлобными, но и безучастными замечаниями по поводу цвета моего лица, моих угрей, моей неуклюжести он только усиливал мою зажатость и мои мании.
Симона де БовуарПосмотрите на них, на этих увальней, на их ноги-ходули, на этих маленьких толстячков, на эти красные лица, на этих подростков вечно не в своей тарелке. Они не знают, куда девать руки, им тесно в одежде, они шаркают ногами и бормочут что-то невнятное. Неловкое и неуклюжее тело, которое, само того не желая, растет во все стороны, внезапно появившиеся груди, неуютно чувствующие себя на своем месте под нескромными взглядами, появление месячных, воспринимаемое как нечистота: это прыщавый, неотесанный, угреватый, набухающий и созревающий возраст, сильнее, чем любой другой, зависимый от речи и взгляда других, возраст, когда краснеть становится опасно (если краснеет ребенок, он остается очаровательным, если краснеет подросток, он начинает расплачиваться за свой детский стыд), когда вас ранят или берут в плен слова других — простофиля, недотрога, дылда, тюфяк, жиртрест, пугало огородное, очкарик, толстяк, рахитик…
* * *На поверхности подростковых тел стыд, это стихийное бедствие, оставляет поистине неизгладимые отпечатки. Он устраивается там, как у себя дома,
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Книга стыда. Стыд в истории литературы - Жан-Пьер Мартен», после закрытия браузера.