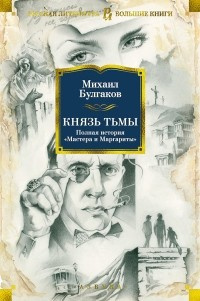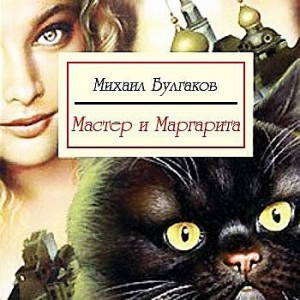Читать книгу "«Я хотел служить народу...»: Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя - Михаил Афанасьевич Булгаков"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Заметим: нигде не прикоснулся Воланд, булгаковский князь тьмы, к тому, кто сознает честь, живет ею и наступает. Но он немедленно просачивается туда, где ему оставлена щель, где отступили, распались и вообразили, что спрятались: к буфетчику с «рыбкой второй свежести» и золотыми десятками в тайниках; к профессору, чуть подзабывшему Гиппократову клятву; к умнейшему специалисту по «разоблачению» ценностей, которого самого он, отделив голову, с удовольствием отправляет в «ничто».
Работа его разрушительна — но только среди совершившегося уже распада. Без этого условия его просто нет; он является повсюду, как замечают за ним, без тени, но это потому, что он сам только тень, набирающая силу там, где недостало сил добра, где честь не нашла себе должного хода, не сообразила, сбилась или позволила потянуть себя не туда, где — чувствовала — будет правда. Вот тут-то «ён», как говорила одна бабушка о дьяволе, ее и схватил.
Даже лица у него собственного нет. Оно всегда только сгущение свойств того, у кого он обезьянски поднабрался. Иногда только что, или давно, так что мы успели позабыть, откуда награблен его реквизит — шпаги, плащ и шляпы с пером, — вплоть до того уже трогательного момента, когда мы слышим, как дьявол, оставшись один, напевает старый романс: «скалы… мой приют…» Подхватил запетую тему и тоскует; это уже его. Но все при людях и от людей.
Кот же, его посыльный, мы чувствуем, что уж совершенно свой, прижившийся на чердаках и в коммунальных квартирах. Он симпатичен во всех своих мелких злодействиях, полезен; видно, что без него вряд ли можно было бы и обойтись. То есть он просто необходим для контроля, так как представляет все те неотвязные глупости, о которых необходимо напомнить, когда из них выкарабкиваться почему-либо перестали, — толстое их воплощение, серьезный, деловитый, домашний, вникающий в интим.
Он еще ждет своих иллюстраций, таких бы, как у Ватагина к «Маугли» или к «Онегину» Кузьмина; хотя этот стиль безусловной фантазии (именно не условной) все равно потребует чего-то нового, и увидеть его на бумаге сумеет лишь художник.
Так или иначе, но все несомненнее выступает мысль: наглецы из компании Воланда играют лишь роли, которые мы сами для них написали. Там, где положение сравнительно нормально, они гуляют на степени воробушка и кота; где помрачнее — там уже бегает глумливый и хихикающий «клетчатый» с клыкастым напарником, а где совсем тяжко — сгущается черный Воланд, уставя в эту точку пустой глаз.
Но повсюду, как ни отвратительна нечисть, остается признать, что и источник приносимых ею бедствий не в ней. Недаром несчастный поэт Бездомный, гоняясь за слугами Воланда, налетает головой на стекло, собственной головой, которой суждено лишь потом одуматься; они этим преследованиям только рады. Потому что здесь уже для преследователей совсем теряется из глаз главная, настоящая причина разрушений, сознаться в которой нелегко: собственное размахайство и наплевательство, желание во что бы то ни стало быть правым и ковырять любую ценность, как игрушку, у которой, мол, просто хитрый секрет и ничего особенного, а поломав — «туда ей и дорога», словом, то самое, что другой русский писатель определил как «мы гибнем… от неуважения себя».
Однако Булгаков никак не думал, что мы гибнем. Хотя и приходится допустить, что наглый посетитель Турбина имел для своих слов куда больше оснований, чем нам бы того хотелось, общее настроение этого романа остается иным. Именно потому, что разложению позволено здесь в разных, невидимых глазу тонкостях показать себя, раскрыться — и, однако же, ничего решающего не совершить, становится ясно, что влиянию его положены границы, которые оно может подвинуть, но не преступить. Мы присутствуем, приближены и видим, как действует эта замечательно интересная сила в целой серии образов и переменчивых лиц; как она, едва проснется подлинное, тотчас же спешит к нему присоединиться, но чуть кто зазевается — быстро его рушит, разъедает, глумится и топчет; как она ползает кругом, ища щель, обезьянствует, прикидываясь другом, и т. п. Но не больше: никогда не может ухватить она у этого подлинного его начал. И значит, всем своим коварством — только чистит, выжигает его слабость. Безжалостное исправление того, что не пожелало само себя исправить. Собственное же положение ее остается незавидным; как говорит эпиграф к книге: «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Все разоренное ею восстанавливается, обожженные побеги всходят вновь, прерванная традиция оживает и т. д.
Конечно, и источник авторского спокойствия оттуда. Он тоже издалека — соединен с началами, которых разложению не достать. Роман наполнен этим настроением, которое не выговаривается прямо, но дает ему весь его внутренний разбег.
Так уже в самом стиле этой книги мы почувствуем продолжение чего-то очень для нас важного — русской интеллигентности. Не в лицах и событиях, а в том, как автор с ними ведет себя: в голосе, составе мысли, обращении.
И не просто продолжение. С нами явно говорит интеллигент исторически иной, не тот, что спешил когда-то отдать кошелек любому встречному бродяге на призыв: «Мадмуазель, позвольте честному россиянину на пропитание… Выдь на Волгу!» — как у Чехова. Отошел этот тип. Прошло и время, когда титаны, умиляясь собственной силе, обнимались в слезах и, хватив шапкой о землю, готовы были все отдать (и отдавали); вразумление, которого требовал — тщетно — Чехов, наступило. В булгаковском стиле, интонации стало возможным осознать, хотя и трудно определить его, это отрезвление.
Вдруг мы услышали снова классический русский смех, интересно изменившийся, что-то сообразивший и мягко, но бесповоротно что-то усвоивший, укрепивший через испытания, как это всегда бывало, свое. Очень любопытно его отношение к насмешливости иного, одно время модного у нас склада, к иронии многозначительного третирования «мещан». У Булгакова она узнается в стиле сразу, но у кого, где — у Коровьева-Фагота:
«— Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? — спросил Коровьев, удивляясь.
— Вы — писатели? — в свою очередь спросила гражданка.
— Безусловно, — с достоинством ответил Коровьев.
— Ваши удостоверения, — повторила гражданка.
— Прелесть моя… — начал нежно Коровьев.
— Я не прелесть, — перебила его гражданка.
— О, как это жалко, — разочарованно сказал Коровьев» и т. д.
Есть и эта ирония в булгаковском романе. Но что же: в общем складе авторской мысли она явно проигрывает, хотя и думает, что торжествует; самый способ ее — заставить дурака наступить на щетку и радоваться, как у того сыплются искры из глаз, — оборачивается в вопрос: а ну, как этот дурак опомнится, поумнеет? Даже выяснится, что он был и не дурак вовсе, а только в дурацкое положение
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги ««Я хотел служить народу...»: Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя - Михаил Афанасьевич Булгаков», после закрытия браузера.