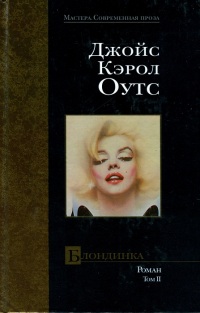Читать книгу "Ф - Даниэль Кельман"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отец его был бродягой, колдуном, шарлатаном и рвал зубы. Ему удалось спастись от чумы; добравшись до Кельна, он на глазах изумленной толпы взмыл в воздух и трижды облетел вокруг собора, который тогда еще только начинали строить. Потом стали судачить о том, как ему удалось так ловко всех провести, но на самом-то деле взлететь не так уж и сложно, если не бояться и не сомневаться в себе, да еще и быть сумасшедшим. Близ Ульма один торговец обвинил его в том, что тот украл у него деньги; так и было, однако он знал: нужно лишь бегать быстрее всяких дураков, и тогда тебе ничего не грозит. На околице какой-то деревни, среди особенно высоких деревьев, он зачал ребенка, которого никогда не увидел – да он и сам не знал своего отца.
Так прошла его жизнь. Одни говорили, что он кончил свои дни в Палестине, другие – что на виселице, и лишь немногие полагали, что он еще жив, потому что смерть может настичь каждого, но только не такого, как он.
Отец его был сыном солдата, взявшего силой не желавшую его женщину на обочине дороги, среди полей. В его тисках ей стало ясно, что Господь не смилостивится над нею, потому что ад отнюдь не ждал ее впереди, а наступил здесь и сейчас. Солдату вдруг сделалось ясно, что он творит бесчинство, и он выпустил ее, но было поздно; он бросился бежать и позабыл о случившемся. Она бросила ребенка в конюшне сразу после родов – и тоже позабыла.
Но мальчик выжил. Пережил чуму, косившую людей по всей стране, пережил боль и тиф; он не хотел умирать, хотя все указывало на то, что к этому идет: еды почти не было, но он все жил и жил, повсюду было дерьмо и роились мухи, но он жил, а если бы умер, то не было бы ни меня, ни моих сыновей. На нашем месте были бы другие, они бы думали, что все так и должно было случиться – но их нет.
Он вырос, стал кузнецом, нашел себе жену, открыл свою маленькую лавчонку, которая вскоре сгинула в пожаре, потом стал конюхом. Родил восьмерых детей, из которых трое выжили. Затем его переехала повозка, он потерял ногу, но опять-таки остался жив, хотя начавшаяся гангрена и взбаламутила ему голову. Ему почудилось, будто ему явился дьявол, и он попросил его даровать ему долгую жизнь; дьявол вернулся в пекло, и жар отступил.
Однажды утром он проснулся – прошли недели, а может быть, даже годы, – и с трудом припомнил игру в карты, вино и вытащенные ножи. Ничего больше о минувшей ночи он вспомнить не мог, мир съежился, словно от него отрезали кусок, и, принявшись ощупывать нос в поисках источника боли, он обнаружил, что одного глаза недостает. Поначалу его одолел испуг, но потом он расхохотался. Вот везение – он всего лишь лишился глаза, а ведь могло и что похуже приключиться! Глаз-то у человека два – сердце одно, легкие одни, желудок один, а глаз таки два! Жизнь тяжела, но все же в ней нет-нет, да и повезет.
Вот уже какое-то время я слышу плач. Еще минуту назад это был просто странный шорох, который я слышал во сне, но сон улетучился, а плачет женщина, что лежит подле меня. По-прежнему не открывая глаз, я чувствую, что мне откуда-то известно: голос принадлежит Лауре – или, точнее, все это время он ей и принадлежал. Она рыдает так, что трясется матрас. Лежу не шевелясь. Сколько еще мне удастся притворяться спящим? Я бы с таким удовольствием вновь пал в объятия Морфея, но увы – день начался. Я открываю глаза.
Сквозь щели жалюзи проникают лучи утреннего солнца, чертя по ковру и стенам тонкие линии. Узор ковра симметричен, а если смотреть на него слишком долго, то он завладевает вниманием, привязывается и уже не отпускает. Лаура лежит рядом, совершенно спокойно, ее дыхание беззвучно, она крепко спит. Откинув одеяло, я встаю.
Пока я бреду босиком по коридору, вспоминается сон. Да, вне всяких сомнений, это была бабушка. Вид у нее был усталый, измученный и какой-то неполноценный, словно лишь части ее души удалось до меня добраться. Она предстала передо мной, скособочившись, опершись на клюку, пучок ее был подколот двумя шариковыми ручками. Она раскрывала рот, делала знаки руками, хотела мне во что бы то ни стало что-то сообщить. Казалась она при этом невероятно обессилевшей, губы трубочкой, в глазах мольба – а в следующее мгновение ход сна изменился и унес меня прочь от нее, в совершенно другое место. Так я никогда и не узнаю, что она пыталась мне сказать.
Я бреюсь, захожу в душ и включаю горячую воду. Сначала льется теплая, потом горячая, потом кипяток – как я люблю. Откинув голову назад, подставляю тело под струи воды, прислушиваюсь к шуму, чувствую обжигающую боль и на мгновение забываю обо всем.
Забвение длится недолго. Вот уже волной нахлынули воспоминания. Может, я и продержусь еще месяца два. Или три. Но не больше.
Закрываю кран, выхожу и зарываюсь лицом в махру полотенца. Как всегда, моя память, реагируя на запах, воскрешает картины прошлого: вот мама несет меня, завернутого в полотенце, в постель; на фоне свисающей с потолка лампы – рослая фигура отца, его взлохмаченные волосы подведены бьющим в спину светом; в соседней кровати уже дремлет Ивейн; вот наша песочница, где я все время стремился разрушить башни, которые он возводил; вот луг, где он нашел дождевого червя – я тогда разорвал его надвое, и он ужасно расплакался. Или все было наоборот? Надеваю халат. Пора принимать лекарства.
В кабинете все по-старому. Это успокаивает. Письменный стол с большим монитором, Пауль Клее на одной стене, Ойленбёк – на другой; пустые папки. Никогда здесь не работал. Полки тоже пусты, из справочной литературы ни один том так и не был раскрыт. Но если я устраиваюсь здесь и делаю вид, будто погружен в дела, ко мне никто не заходит, и одно это уже дорогого стоит.
Два тропрена, один торбит, один превоксал и один валиум – не стоит начинать день со слишком уж большой дозы, должен же у меня, в конце концов, оставаться шанс ее увеличить, если вдруг случится что-нибудь непредвиденное. Глотаю все разом – это неприятно, и приходится собирать всю волю в кулак, чтобы подавить рвотный рефлекс. Почему я не запиваю их водой, мне неизвестно.
И вот я уже чувствую их действие. Вероятно, это лишь игра воображения, таблетки не могут действовать так быстро, но разве это имеет значение? Меня ватой окутывает безразличие, и можно продолжать жить. Однажды ты потеряешь все, само имя «Эрик Фридлянд» будет вызывать отвращение, те, кто еще верит тебе, станут тебя проклинать, семья твоя развалится, а тебя упекут за решетку. Но не сегодня.
Никогда и никому я не должен признаваться, до чего ненавижу этого Клее. Косые ромбы, красные на черном фоне, рядом перекошенный, откровенно жалкий человечек – палка-палка-огуречик, – я и сам бы мог такое нарисовать. Знаю, так думать нельзя, это табу, но никак не могу избавиться от этой мысли – да, я и сам бы мог такое нарисовать, мне и пяти минут не понадобилось бы! А вместо этого мне пришлось выложить за нее семьсот пятьдесят тысяч евро, потому что у человека в моем положении просто обязана висеть ну очень дорогая картина: у Янке есть Кандинский, у Неттельбека из «БМВ» – Моне (а может, и Мане, черт его знает), у старика Ребке, с которым я играю в гольф, на газоне стоит Ричард Серра – громадная ржавая штуковина, страшно мешающая во время вечеринок в саду. И вот сколько-то лет назад я попросил Ивейна подыскать и мне что-нибудь подходящее, только чтоб наверняка.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Ф - Даниэль Кельман», после закрытия браузера.