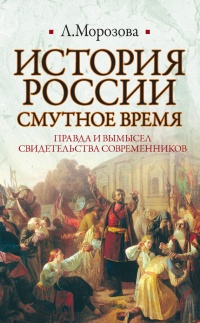Читать книгу "Чехов - Алевтина Кузичева"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В литературно-артистических кругах Петербурга и Москвы сначала живо обсуждали избрание Горького. Книппер написала мужу 4 марта: «Многие думали, что Горький откажется от академика. У меня была тоже эта мысль». На что Чехов ответил 9 марта: «Откуда ты это взяла? Напротив, по-видимому, он был рад». После сообщения об отмене публика и газеты еще живее начали говорить и писать об «академическом инциденте».
14 марта, после продолжительного перерыва в переписке, Короленко написал Чехову из Полтавы. Речь шла о сборнике, посвященном Гоголю, о возможности участия Чехова в журнале «Русское богатство». Оба приглашения Короленко сделал без особой надежды на согласие. Особенно — насчет журнала. Гораздо эмоциональнее и определеннее звучал постскриптум: «Что за чушь вышла с „кассацией“ выборов Горького? Какой смысл кассировать выборы, все значение которых только в факте почетного избрания? А ведь факта этого уничтожить нельзя. Вообще — гадость». Чуть ранее Короленко написал одному из современников, что объявление выборов недействительными — это «оскорбление всем нам, выбиравшим».
До Чехова доходили вести о заседаниях в Академии наук, о писаниях редактора газеты «Гражданин», князя В. П. Мещерского, что избрание Горького — «вызов, брошенный всей образованной России Пушкина и Карамзина, всей верноподданной России», что это — «насмешка над всем, что есть у русских людей святого». Чехов знал, что в списке кандидатов значились 47 человек. Среди них — Потапенко, Щепкина-Куперник, Скабичевский, Бальмонт, Баранцевич, Мамин-Сибиряк, Сухово-Кобылин. Включены были и те, кого в начале декабря 1901 года предложил Чехов (и не только он) — Михайловский, Мережковский, Спасович, Вейнберг.
Ни с кем из тех, кого назвал Чехов, у него не было ни приятельских, ни деловых, ни общелитературных связей. От встреч с ними он уклонялся, переписки не вел. В отзывах подчеркивал то лучшее, что заметил в них или в их сочинениях. Все четверо по-человечески оставили его равнодушным. Так что в выборе Чехова нет даже тени личного отношения: дружеской приязни или наоборот — обиды за рецензии, за доходившие до него нелестные оценки. Он будто избегал упрека в протекции старым приятелям или молодым литераторам. В общем, у него были свои резоны назвать тех, кого он назвал.
Н. П. Кондаков рассказывал Чехову, что «выборы шли туго, как никогда». Баллотировали несколько раз. Так что окончательное решение — Сухово-Кобылин и Горький — далось нелегко. Несмотря на отдельные газетные статьи, скорее похожие на донос, шум вокруг избрания Горького довольно быстро бы смолк, не будь доклада Сипягина и общего фона — волнений среди молодежи, рабочих и крестьян зимой и ранней весной 1902 года. Еще до письма Короленко другой хороший знакомый Чехова, киевский профессор А. А Коротнев, возмущался отменой выборов Горького и вопрошал в своем письме: «Неужели же остальные почетные академики не выйдут в отставку? А то ведь покорное молчание с их стороны будет принято за одобрение совершившейся мерзости!»
Чехов не любил публичные заявления. Короленко тоже не предлагал устраивать молниеносный демарш и демонстративный протест. Они решали этот вопрос сначала каждый сам по себе. Оба выясняли формы официального обжалования отмены избрания Горького. Чехов написал К. К. Арсеньеву, юристу, тоже почетному академику. Тот проконсультировался с коллегами и ответил 29 марта: «…некому жаловаться, потому что нет власти, выше стоящей. Что касается же выхода из Академии, то пока, сколько мне известно, никто из ординарных или почетных академиков этого вопроса не возбуждал».
Тем не менее Чехов уже в марте не исключал для себя выход из академии, если другие формы протеста окажутся невозможными. 2 апреля он написал Кондакову: «Очень бы хотелось повидаться с Вами и поговорить, узнать подробности о последних академических выборах. До сих пор для меня многое не ясно, по крайней мере я не знаю, что мне делать, оставаться мне в поч[етных] академиках или уходить. Мне, повторяю, очень хочется поговорить с Вами, и хочется, и очень нужно».
Событие, случившееся в этот же день в столице, не могло не сказаться на «академическом инциденте» и общественном настроении. 2 апреля в Петербурге, в Мариинском дворце Д. С. Сипягин был в упор застрелен студентом Киевского университета С. В. Балмашевым.
В переписке Чехова и Книппер зимой 1902 года несколько раз упомянут пресловутый портрет Браза. Врачи, участники Пироговского съезда, поднесли актерам 11 января, после первого акта «Дяди Вани», фотографию с этого портрета — в массивной раме, с надписью на золотой доске и с золотой лавровой ветвью. Книппер написала: «Только ты теперь лучше, полнее и моложе, чем на этом портрете». На что он ответил с досадой: «Не могли они купить у Опитца! Впрочем, всё сие неважно». Однако через неделю попросил жену: «Исполнь мою просьбу, дуся. Доктора поднесли вам мой поганый портрет, я не похож там, да и скверен он по воспоминаниям; попроси, чтобы его вынули из рамы и заменили фотографией от Опитца. Мне противен бразовский портрет».
Спустя три недели, 13 февраля, Чехов, выражая признательность одному из устроителей своего заочного чествования на съезде врачей и в театре, не удержался от шутливого упрека: «Только вот одно: зачем, зачем портрет работы Браза? Ведь это плохой, это ужасный портрет, особенно на фотографии. Я снимался весной у Опитца на Петровке, он снял с меня несколько портретов, есть удачные, и во всяком случае лучше бразовского. Ах, если бы Вы знали, как Браз мучил меня, когда писал этот портрет! и вот если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом портрет мой».
Что так отвратило Чехова от портрета? И почему он так упорно адресовался к конкретной фотографии? Может быть, Чехова волновало выражение, запечатленное на портрете: беззащитное, будто Чехова застигли врасплох, наедине, и он недоволен, чуть растерянный, едва не морщится от скрытой досады. На фото — Чехов привычно наблюдает, неуловим, отстранен. Правда, он выглядел здесь благодаря мастерству фотографа не совсем таким, каким был весной 1901 года. Или просто выпал такой удачный день.
Фотографии 1902 года, особенно любительские, не скрывали, что Чехов разительно изменился. Он почти всегда в пальто, в теплом сюртуке, в шляпе. Взгляд, если только он не опущен вниз, либо чуть ироничен, либо сосредоточен. Словно Чехов не замечал съемки, позволял фотографировать, но безразличен к происходящему.
Некоторым современникам казалось, что Чехов теперь мрачен. Видимо, так воспринималась глубокая погруженность человека, который вместе со всеми, но один. На акварельном наброске В. А. Серова, датированном 1902 годом, но создававшемся урывками в предыдущие годы, Чехов чем-то неуловимым напоминал себя молодого, каким остался на портрете, сделанном братом Николаем, хотя там он был изображен в профиль.
Иногда при знакомстве взгляд Чехова казался современникам холодным, речь суховатой, вопросы и ответы краткими. Потом это ощущение исчезало. Некоторых смущало пристальное внимание Чехова в первые минуты встречи. Затем оно уже не мешало. Однако попытки определить, что обнаруживал этот взгляд — природную мудрость, затаенное страдание необратимо больного человека — наверно, изначально были обречены. Хотя увлекали некоторых современников. Но впечатление Серова — «Чехов неуловим» — оказалось самым точным. Как и наблюдение Бунина: «Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную. Только не „грусть“ и не „теплоту“».
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Чехов - Алевтина Кузичева», после закрытия браузера.