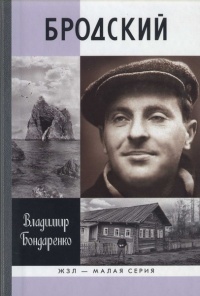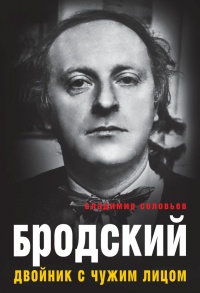Читать книгу "Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского - Яков Гордин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он предъявил суду заявление, подписанное им одним, и обманул суд, утверждая, что это заявление, порочащее личность и работу И. Бродского, одобрено большинством членов комиссии. Так Е. Воеводин совершил подлог и лжесвидетельство.
Мы, молодые литераторы Ленинграда, не можем, не желаем и не будем поддерживать никаких отношений с этим морально нечистоплотным человеком, порочащим организацию ленинградских писателей, дискредитирующим в глазах литературной молодежи деятельность Союза писателей.
Я. Гордин, А. Александров, И. Ефимов, М. Рачко, Б. Иванов,
В. Марамзин, Б. Ручкан, В. Губин, А. Шевелев, В. Халупович,
Я. Длуголенский, Е. Калмановский, М. Данини, Г. Шеф, В. Соловьев,
С. Вольф, А. Кушнер, М. Гордин, А. Битов, И. Петкевич, В. Бакинский,
В. Воскобойников, Т. Галушко, Г. Глозман, О. Тарутин, Э. Зеленин,
Г. Горбовский, Г. Плисецкий, Е. Кумпан, Л. Глебова, Л. Агеев, Е. Кучинский,
Н. Королева (с оговоркой: согласна не со всеми положениями письма, но
считаю, что после выступления на суде Е. Воеводин не может
оставаться в Комиссии по работе с молодыми авторами),
А. Городницкий, М. Земская (с оговоркой: не имея собственных претензий к
Е. Воеводину по отношению ко мне лично, присоединяюсь к заявлению в
целом), Е. Рейн, В. Щербаков, Р. Грачев, А. Зырин, Т. Калецкая, А. Леонов,
Л. Штакельберг, Д. Бобышев, Н. Столинская,
А. Вилин, А. Ставиская, И. Комарова»
Первый вариант письма, написанный мной, был целиком посвящен опровержению приговора. Но многоопытный Давид Яковлевич Дар решительно его забраковал, сказав, что с «ними» надо говорить на «их языке», и набросал основу данного текста…
Быть может, самое интересное в этом письме – подписи. Потом эти люди разошлись – и как! Эмигранты, члены правления СП, черносотенцы, даже один убийца, хладнокровно зарезавший человека за то, что он еврей…
Собственно, этим письмом было начато движение «подписантов» – людей, подписывавших коллективные петиции в защиту жертв незаконных процессов: Синявского-Даниэля, Гинзбурга-Галанскова и других, – захватившее к концу шестидесятых годов не одну тысячу интеллигентов и затем разгромленное.
Само же письмо в этом виде, разумеется, было маневром. Комиссия по работе с молодыми литераторами интересовала нас меньше всего. Важно было показать истинное отношение молодой литературной общественности к Бродскому.
Дальнейшая история этого письма трагикомична. Ленинградский секретариат ни за что не хотел его принимать. Мы его подавали, нам его возвращали.
Наконец, мы послали его в Москву. Ответа не получили, но Наталья Иосифовна Грудинина говорила мне, что видела первый экземпляр в Генеральной прокуратуре, где она хлопотала об освобождении Иосифа. У меня сохранился третий экземпляр с натуральными подписями.
Что же объединило полсотни таких разных людей, часть которых знала Иосифа вполне поверхностно? Ощущение, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Нам всем показали, что мы бесправны и беззащитны. И мы попытались объединиться. Но ничего из этого не вышло, поскольку альянс наш был неорганичен.
Бродский был отправлен по этапу – вместе с уголовниками – в деревню Норенское Коношского района Архангельской области. Деревня находится в 21 километре от железной дороги, окружена болотистыми северными лесами. Иосиф выполнял там самую разную физическую работу. Мы с писателем Игорем Ефимовым приехали к нему в октябре шестьдесят четвертого года. Относились к нему в деревне хорошо, совершенно не подозревая, что этот вежливый и спокойный тунеядец возьмет их деревню с собой в историю мировой культуры[12].
Он жил в крепкой, на высокий фундамент – как полагается на Севере – поставленной пристройке к основной избе Пестеревых. И изба, и пристройка сложены были из огромных черных бревен. Комната была небольшая, и в ней царил невообразимый кавардак. Бросались в глаза приемник, пишущая машинка и довольно закопченная керосиновая лампа. Книги, бумаги, спальный мешок. Мы с Игорем спали на полу… Иосиф был вполне бодр. В ватнике и кирзовых сапогах он смотрелся очень органично на фоне мощных северных изб, перепаханной тракторными колесами грязной осенней улицы, да и жителей деревни. В первый день после нашего приезда – мы приехали к концу дня накануне – ему предстояло лопатить зерно в амбаре, чтоб не грелось и не прело. Мы втроем быстро осилили эту работу и полдня гуляли по окрестностям. Картина угнетающая – болота, редколесье… Я много фотографировал. Разговоры на этой прогулке велись, насколько я помню, исключительно вокруг хлопот за его освобождение.
Когда в первый вечер мы осмотрелись в избе и стали распаковывать привезенные Осе передачи, то я, в частности, достал и отдал ему рукопись Жени Рейна. Не могу простить этого себе по сию пору. Женя – по непонятным мне причинам – решил описать в стихах новогоднюю историю на даче Шейниных – ухаживание Димы Бобышева за Мариной. Поэма называлась «Глаз и треугольник». Он считал, видимо, что переключенная в поэтический, литературный ряд бытовая история станет восприниматься Осей именно как факт литературы. Очевидно, уверенный в магической силе поэтического слова, Рейн решил, что это будет мощным психотерапевтическим актом, и уговорил меня взять поэму с собой. А я, как последний идиот, согласился в конце концов.
Ося пробежал текст глазами, болезненно сморщился и сказал: «Зачем ты мне это привез?» И отложил рукопись. Больше мы к этому не возвращались. Но был и еще один малоприятный для меня эпизод. Отдавая мне на хранение незадолго до ареста – перед отъездом в Москву – рукопись незавершенной «Столетней войны», Ося взял с меня слово никому текст не показывать. Но когда мы с Натальей Иосифовной Грудининой думали, какие бы стихи приложить к ее письмам в прокуратуру как образец добропорядочности автора, то решил, что жестокое описание боя в «Столетней войне» можно представить как образец антивоенной поэзии, тогда очень ценившейся властью. Я перепечатал небольшой фрагмент и отдал его Наталье Иосифовне. Что она с ним сделала – не знаю. Но в какой-то момент того же вечера Иосиф как-то невзначай спросил: «Ты „Столетнюю войну“ никому не давал?» – «Мы же договорились», – ответил я. Он достал машинописный листок – тот самый фрагмент – и молча мне протянул… Я в смущении стал объяснять ему благую цель… «Не делай этого больше», – сказал он. Откуда он получил эту копию, я, естественно, выяснять не стал.
«Столетнюю войну» я выпустил из рук один только раз – с его согласия, когда составлялось марамзинское собрание. Взял ее у меня Миша Мейлах, который мне ее и вернул. Уже в конце восьмидесятых я по телефону, а затем при встрече в Штатах стал уговаривать Осю опубликовать это «большое стихотворение», настаивая на его принципиальной смысловой ценности. «Не время», – ответил он.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского - Яков Гордин», после закрытия браузера.