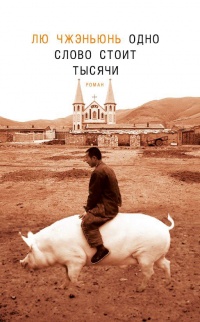Читать книгу "Последний колдун - Владимир Личутин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Кинулся Радюшин прочь от реки, от темени промозглой, словно боялся оставаться долее там, обогнул клуб и затаился обочь высокого крыльца, жадно вглядываясь в распахнутую дверь. Так к людям захотелось, ровно бы кто ранее за плечо удерживал: даже пустого мельтешенья меж них хватило бы и говорильни хмельной. Но пошарил глазами и ровни своей не отыскал в зале: несерьезный народ толокся, все больше недоростки в платьях-поддергушках винтили пол каблуками. «Мокрохвостки еще, а совсем заголились, – отметил невольно и отвел взгляд, когда штрипочку голубую ухватил и литой поясок бедра. – Матерые, куда там, как бабы замужние. Опару на хорошем харче гонит».
Парни отирали плечами косяки; пьяно дымили, кто-то тянул сквозь зубы одну и ту же коротушку, еще из материного сундучка выхватил: «Девки подол выжали, парни воду выпили. Думали, свята вода, то из-под меленки беда...» Давно пели, еще до войны. И неуж при моей жизни? Тогда частушка в моде была: попади на язык – отбреют и ярлычок навесят. Это же про Ваську Сопочкина, первого тракториста, Фенька Полькина спела: «У моего у милого голова из трех частей: карбюратор, вентилятор и коробка скоростей». Вон на крыльце пролетарии тоже толкутся. «У моего у милого голова из трех частей...» И час трутся, и два, как стоялые кони. Нет бы книжку в руки, забыли уж, когда читали. Иль по дому чего помочь – на худой случай. Я-то, бывало, в молодых летах горел. Я-то горел. Баржа, случилось, под берегом притонула с досками. Лошади не дают, как хошь, говорят, добывай. И не лень мне было калевку за два километра на себе волочить. Обшил клуб, обустроил, любо глянуть. Уж сколько лет с послевойны прошло, а он все как милушка. Приедешь в Погорелец, глянешь – и как память ведь. К должности-то клубной приступил, так первым делом сажу надо было выпахать. Трубы сетной рванью охаживаю, а двоюродница идет, кричит с заулка: «Колька, это ты? Образованья-то наполучал, дак и сгодилось!» Смеется, значит, охальница... Мы к работе с малых лет приставали, нам без работы тоска была. Ну как без дела жить?..
Мысли Радюшина, наверное, куда бы как далеко отшатнулись, домой бы вернулся он просветленный и виноватый перед женой, тихо бы отужинал и так же ровно и покойно завалился спать, но тут из темени вывернулся Тимоха Гранатометчик, как тать лесная вытаился из мрака. Радюшин неожиданно наткнулся посторонним взглядом на одичалое щетинистое лицо, вывернутый, налитый кровью глаз – и отшатнулся.
– Тьфу ты... Напугал. Черт бы тебя забрал, шляесся тоже, – тихо, чтобы не привлечь чужого вниманья, ругнулся председатель.
– Миколай Степанович, друг ситный, – завопил Тимоха и полез сразу целоваться. – Люблю тебя, гада... Ты не знаешь, а я знаю.
Сивухой ударило, как из пивной бочки, перегаром...
– Ну ладно, ты поди давай. – И чтобы отвязаться от докуки, Радюшин стремительно отшагнул в темь, поспешил к дому, но душа его, будто утихшая, уже неслышно полнилась раздражением. «Пьяница чертов, – уже калил себя, – болтается по деревне, людей пугает. Гнать бы таких, в шею гнать». И тут сзади послышались путаные бухающие шаги, тяжелое сорванное дыханье. Эк, привязалась привязка, теперь не отстанет. Что глухому, что пьяному говорить впустую. Но все-таки остановился Радюшин: не убегать же. Да и кто он, вор, что ли, чтобы по своей-то улице бегать.
– Эй ты... слышь. Миколай Степанович. Как другу...
– Иди, говорю, по-хорошему. Ну чего привязался?
– Рассуди... У тебя голова большуханска, она все знает. – Вдруг заплакал Тимоха, его круто обнесло, и он, едва удержавшись на ногах, заскрипел зубами и приник к груди председателя. Радюшин беспомощно огляделся, словно бы подзывая подмогу, но пусто было на деревне и молчаливо. – Прости, председатель, – канючил Тимоха, дыша перегаром. Он елозил подбородком по клеенчатому плащу и все тянулся куда-то, видно, норовил поцеловать, собака. – У меня такая говоря, слышь? Как у отца-покойничка говоря. Мати у меня не молодка, да и я не молодец. Дак вот... Вишь, что со мной жонка исделала. Помоями меня, прилюдно. Хорошо, в глаза не попало. Из дому гонит, а дом-от отчов, у меня и бумага есть, и печать. Отчов дом-от, слышь? – Тимоха застонал и в голос завыл.
– Завтра, как протрезвеешь, приходи. В милицию-то заявлял?
– Ты что? Ты милицию брось, слышь? А, гребуешь? – внезапно обиделся мужик и больно пехнул Радюшина в плечо. – Я по честности ему, как по партии, ни одного слова не вру, а он в милицию меня. Простого народа гнушаешься, зараза. Тьфу на тебя.
– Глупый, да? Ты мне партию не трепли, – силясь удержаться, еще урезонивал Радюшин, но голос его против воли накалился, и председатель, сплющивая в карманах кулаки, вплотную придвинулся к распьянцовской голове и закричал: – Иди прочь, говорю! А то ударю, и не встанешь больше! Иди!
Знать, последние слова Тимоху ошарашили, он сник и провалился в темени, как будто и не было его, и только из ночной глуби всплывало неровное дыханье. Радюшин еще потоптался, соображая, как лучше поступить, и пошел прочь: но сердце-то распалилось, екало – не унять, и в горле сухость. «Из-за такой дряни и столько волнений, – думал, ожесточаясь и подавляя нахлынувшую дрожь. – Вдарить бы, чтоб красные сопли из носа. Пусть тогда идет жалуется».
Он уже сворачивал в свой заулок, когда Тимоха подыскал емкие слова и заорал на всю улицу:
– На твои не пил, на свои пил, распроязви такую мать. Я к ему по-товарыщски, значит, а он в морду. – Голос ввинчивался в деревенскую тишь нарочито дерзко, так что в каждой избе слыхать. Завтра разнесут по Кучеме, растрясут сплетни: вот и новость, вот и забава. – Ты гордоватой больно, а я тебя не боюся. Я тебе в ухо могу нас... хоть ты и гордоватой. Ну чего убежал? Трусишь, да? Ну ударь Тимоху, ударь, его все могут.
Уйти бы, не слушать эти помои, да ноги точно пристыли, завязли. Привалился к изгороди, и пока не умолк Тимоха, не захлебнулся руганью, выстоял Радюшин, каждое матерное слово впитал с глуповатой ухмылкой на губах... Во, как на князьке-то сидеть. Облаяли тебя, будто так и надо, а ты внимай критике масс, ты учись. Эх, дедко, дедко, совиные твои глаза. Много ты видел, да ничего не понял.
Странное дело: дурная брань, пусть и обидная поначалу, коснулась уха и как бы истончилась, завязла и вовсе пропала тут же. Ну что с пьяного спросишь? Но старик Геласий из памяти не выпадал, это от его совиных глаз в душе Радюшина постоянное раздражение, и весь вечер мнится председателю, что нынче его жестоко и неправедно обвинили в пакостном. Тут, видно, поблазнило Радюшину чужое присутствие, словно кто-то с крыльца подглядывал и дышал слабосильно, с легким хлюпаньем в груди.
– Эй, эй... чего надо!
– Сынок... я это.
Неожиданный материн надорванный голос ударил в самое сердце. Шагнул Радюшин навстречу, еще растерянно недоумевая, а Домнушка легонько прильнула, словно бы плоти в старушонке не оставалось – один взволнованный дух, и давай тыкать, мять сына кулачонком в грудь и чему-то своему смеяться дробно, точно захлебывалась радостью, а он неловко, мужиковато охватил материны хрупкие плечи и неумело поцеловал в теплый завиток волос на виске.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Последний колдун - Владимир Личутин», после закрытия браузера.