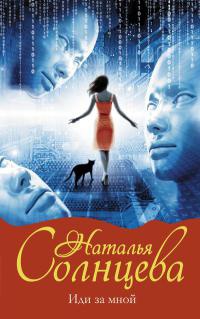Читать книгу "Буэнас ночес, Буэнос-Айрес - Гилберт Адэр"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как оказалось, для самого Мика это тоже было первое посещение подобного мероприятия (тот факт, что он не был знаком лично ни с одним из устроителей, его, похоже, ничуть не смущал); у нас не возникло никаких трудностей с тем, чтобы войти в подъезд, но Мик куда-то задевал обрывок бумаги с номером квартиры.
В результате нам пришлось ходить туда-сюда по великолепной, украшенной лепниной и застеленной ковром безлюдной лестнице; она, как во сне, медленно вращала вокруг нас свои пролеты, и мы уже собрались отказаться от своей затеи, когда на четвертом этаже Мик вдруг воскликнул «Ага!». Я обернулся. Мик согнулся в три погибели перед одной из выходящих на площадку дверей и показал на что-то внизу. Я тоже наклонился и увидел пришпиленную к порогу в дюйме от пола белую карточку, на которой меленькими буковками было написано: «Да, это здесь».
Мику пришлось позвонить несколько раз, прежде чем дверь чуть-чуть приоткрылась и в нее выглянул один из хозяев — если, конечно, это был он. Мужчине было около сорока, на лице его застыла улыбка красавца с довоенных афиш; тоненькие усики подчеркивали блеск зубов. Одет был он в распахнутый, так что были видны серебристо-седые, уходящие завитками вниз волосы на груди, желтый махровый халат, испещренный чем-то, похожим на дырки от пуль (на самом деле скорее прожженные сигаретами). Мужчина молча посмотрел сначала на Мика, потом на меня.
— Je suis l’ami de Serge,[86]— сказал Мик.
— Ca va,[87]— последовал ответ. Не сказав больше ни слова, хозяин распахнул дверь и впустил нас. Мы вошли и молча двинулись следом за ним по узкому коридору. По обе стороны на светлых обоях виднелись прямо
угольники — следы висевших здесь и убранных от греха подальше на время partouze картин (то ли ценных, то ли просто дорогих хозяевам). Посередине коридора распахнутая дверь вела в спальню.
— Laissez vos vetements la,[88]— было нам сказано, — on est dans le salon.[89]— Показав нам на другую дверь, хозяин небрежно подтянул пояс — теперь было ясно видно, что халат надет на голое тело, — и молча удалился.
Хотя дверь в гостиную была закрыта — наш хозяин вышел в другую, ведущую, возможно, в ванную, — я узнал доносящуюся оттуда музыку. Это был старый шлягер «Маленькое белое облачко, которое плакало» Джонни Рэя (из тех подражателей Синатры,[90]кто подчеркивал свою глухоту, выходя на сцену со слуховым аппаратом), давно, по-моему, почившего кумира школьниц.
Я только потому запомнил песню и исполнителя, что он был любимцем моей матери, и когда мы с кузенами Лексом и Рексом рылись в ее пластинках в поисках чего-нибудь интересного, кто-то из моих кузенов сказал, что Джонни как-то был арестован в Детройте или в Дулуте за приставания к мужчине в общественном туалете. Я тогда еще подумал: как странно, что Джонни, хоть и певец, работает адвокатом[91](как мой собственный отец), да еще и выбрал себе для этого такое место, как общественный туалет; и совсем уж не мог я понять, почему за это его следовало арестовывать.
Так или иначе, мы с Миком вошли в спальню, где на кровати под балдахином уже громоздилась высокая куча мужской одежды — как верхней, так и белья, — и начали раздеваться. Сначала мы сняли плащи, оставшись в костюмах, как будто, держась за руки, собирались войти в столовую, где собралось светское общество; однако этим дело не ограничилось: далее последовали пиджаки, брюки, рубашки, носки и наконец — не могу передать, каким извращением это казалось, — трусы. Раздевшись донага, мы взглянули друг на друга.
— Ты в порядке? — спросил Мик.
Я нервно кивнул.
— Allons-y![92]
Когда мы двинулись к двери салона, мне почему-то втемяшилось в голову, что стоит Мику открыть дверь, и все немедленно оторвутся от того, чем занимаются, и уставятся на нас, мысленно решая, которого лучше трахнуть. (Я красивее Мика, думал я, но нет никакого сомнения в том, у кого из нас лучше инструмент.) Что ж, оказалось — уже не в первый раз, — что я ошибся. Когда Мик распахнул дверь и на нас обрушились последние аккорды рэевской панихиды (Оно говорило мне, как одиноко / И никому нет дела, в живых оно или нет / Маленькое белое облачко уселось/ И разрыда-а-алось), — никто даже головы не повернул.
— Жаль, что мы разделись, — шепнул я Мику. — В одежде мы могли бы произвести большее впечатление.
Картину, представшую нашим глазам, почти невозможно описать. В комнате собралось дюжины две мужчин, и все они находились в разных позах и стадиях совокупления, растянувшись на полу. Два парня устроились на единственном оставшемся в салоне кресле; один держал во рту член другого, и голова обслуживающего, как стратегически расположенная ваза с цветами или ракетка для пинг-понга в витрине секс-шопа, скрывающая гениталии манекена, загораживала от меня эрегированный, как можно было догадаться, член обслуживаемого. Трио страдающих ожирением мужчин втиснулось на широкий диван, но понять, чем они заняты (может, и к лучшему), было невозможно. Четверо молодых людей, слава богу, спортивных и подвижных, прижавшись друг к другу бедрами, отплясывали конгу[93]под музыку, похожую на веселую джазовую польку (в исполнении, кажется, Нино Рота[94]); каждый из них держал в руке, просунув ее под волосатой промежностью находящегося впереди, его член, что несколько напоминало парад слонов в цирке.
Я заметил также в углу комнаты бамбуковый кофейный столик, на котором рядом с Барби в миниатюрном целлофановом гробике (должно быть, кто-то из гостей принес ее в подарок хозяевам) стояли три миски. В одной был какой-то белый порошок, в другой — шприцы, в третьей — которой, похоже, мало кто воспользовался, — кондомы.
Мику кто-то помахал с другого конца комнаты (наверное, тот самый Серж — он сидел на полу, раздвинув ноги, а его партнер висел на нем вниз головой); когда Мик направился туда, я потерял его из вида за вихляющимися, вращающимися скользкими телами.
Оставшись стоять в дверях в одиночестве, явно не представляя ни для кого интереса, я почувствовал себя более выставленным напоказ (слово, может быть, и не очень подходящее, учитывая обстоятельства, но иначе назвать свои ощущения я не могу) и беззащитным, чем когда-либо в жизни. На меня нахлынули воспоминания о моих давних одиноких вечерах в клубах и барах Лондона, когда мне приходилось притворяться, будто я выбираю одиночество по доброй воле; воспоминания, впрочем, не шли ни в какое сравнение с кошмарной реальностью того положения, в котором я оказался теперь. В конце концов, я был не только одинок, но и гол; как в страшном сне, я не мог стряхнуть с себя наваждение — я в голом виде явился на респектабельную вечеринку, где все, кроме меня, одеты. (Я даже поймал себя на том, что руками прикрываю гениталии — «чтобы спрятать свой позор».) Что делать? Даже в обычных обстоятельствах я никогда не обладал толстокожей обходительностью, позволяющей вклиниться в кружок незнакомцев и прервать их беседу, чтобы представиться. Так как же, во имя всех святых, и близко не обладая необходимыми навыками, мог я подойти к человеку, которого видел первый раз в жизни, и без всякой подготовки, не обменявшись с ним ни словом, схватить его за член? Именно так это делалось здесь, и я знал, что именно так и должен действовать, если вообще хочу принять участие в происходящем. Никто — это было очевидно — не собирался проявлять в отношении меня инициативу, но я никак не мог заставить себя сделать первый шаг. Более того, моя принадлежность к гомосексуальному сообществу, моя готовность участвовать во всех, даже самых экстремальных извращениях — я ведь считал, что, перефразируя философа, «ничто гейское мне не чуждо», — подверглась жесточайшему испытанию (чего стоила одна только та конга) и не выдержала его. Было что-то настолько унизительное, настолько отвратительное в этих веселящихся горгульях, танцующих, гарцующих, жеманничающих взрослых мужчинах («Взрослые мужчины!» — фыркал мой отец, когда все семейство усаживалось перед телевизором ради еженедельных кривляний Бенни Хилла[95]и его марионеток), что я, признаюсь, впервые после вечера, проведенного в «400 феллатио», почувствовал стыд за то, что являюсь геем. Стыд за то, что меня могут увидеть в этой мерзкой компании. А когда я ощутил, что мой член стал такой же увядшей фиалкой, какой чувствовал себя я сам, я понял, что не могу оставаться здесь больше ни секунды. Ничего не говоря Мику, я кинулся в спальню, быстро оделся — поскольку я пришел последним, моя одежда, к счастью, оказалась наверху общей груды — и неслышно выскользнул из квартиры.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Буэнас ночес, Буэнос-Айрес - Гилберт Адэр», после закрытия браузера.