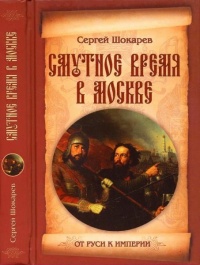Читать книгу "Здесь шумят чужие города, или Великий эксперимент негативной селекции - Борис Носик"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вот здесь — живой голос. Ко всему этому не забудем о тщеславии красавицы-парижанки (приобщение к великим шедеврам), о ее любви к живописи, о ее страсти (может, одной из наиболее сильных человеческих страстей) — страсти к коллекционированию. (Сутин — важнейший экспонат их великой коллекции. На что не пойдешь ради коллекции?..)
Кстати, весьма одобрительно отзывалась о внешности «калмыка» и красивая художница Ида Карская («Морелла» из знаменитых стихов Поплавского), в 30-е годы боготворившая Сутина-художника (а может, и не только художника):
«Был он красив, но какой-то особой красотой, довольно высокого роста, широкоплечий. Его мечтой было стать боксером. Уже будучи известным художником, он жалел о том, что эта мечта не сбылась. У него были длинные волосы (что тогда было не в моде), и к нему ходила какая-то монахиня делать массаж для предупреждения облысения. Сутин был сноб, но не во всем: он мог держаться щеголем, и при этом пиджак на локтях мог быть разорван… Сутин нес в себе какую-то силу, заставлявшую всех преклоняться перед ним. Но ловеласом он не был, напротив, я бы сказала, боялся женщин: съезжал с квартиры, убегал из ателье, переселялся в отель, чтобы никто не знал, где он живет. Была, к примеру, поэтесса Наташа Борисова. Она ему позировала. Когда она приходила, он не мог вспомнить, как ее зовут: Аня? Маня? Саша? Даша? Он вообще ничего не помнил, был рассеян и равнодушен к внешним обстоятельствам жизни. Поэтесса эта решила стать художницей: рисовала какие-то огромные цветы и подписывала большими буквами „Сутин“. Слава богу, она вышла замуж и бросила живопись…».
В 1913 году русская художница Маревна сфотографировалась в садике близ «Улья». Она была без удержу влюблена в Диего Риверу и чуть-чуть в Волошина: ей нравились толстозадые мужчины и, как большинство русских женщин, она влюблялась в обманщиков. Фото из архива Марики Риверы
Что до самой Иды, то мы узнаем из старческого монолога, что ее муж был в то время в армии… великая вещь — монолог…
Так, может быть, Сутин изведал, наконец, счастье? Сомнительно. Слишком он был закомплексован, недоверчив, подозрителен. Карская это отметила верно.
В 1916 году Маревна написала свой кокетливый автопортрет. Впрочем, осчастливленные ею мужчины писали о ней более трогательно, чем сама вечно влюбленная монпарнасская «бродяжка» в своих «Записках»
Молодая художница Мария Воробьева-Стебельская (по ее утверждению, это Горький придумал бедной Маше столь вычурный псевдоним — Маревна), столько раз бывавшая в «Улье», многих там знавшая и многих любившая, рассказывает в своей мемуарной книге о новой встрече с уже разбогатевшим Сутиным. Он мало изменился, все так же канючил и жаловался на жизнь, жалился столь настойчиво, что она осталась с ним ночевать — из чистого гуманизма — и была разочарована. Маревна пересказывает жалобы богатого Сутина в своей мемуарной книжке, но, конечно, ко всем этим «точным» мемуарным пересказам былых разговоров (И. Одоевцева, как известно, заполнила ими два тома) следует относиться с осторожностью. Маревна явно себе «набивает цену» после рассказов о своих былых унижениях в истории с Риверой. И все же — вот как Сутин 1927 года жалуется Маревне на неустроенность своей жизни:
«Ты мне будешь говорить о женщинах, Маревна? Вот у меня есть теперь несколько подруг среди этих „дам света“. Они заезжают за мной на своих огромных шикарных машинах, чтоб везти меня к ним в гости. Это замужние женщины. Как ты думаешь, чего они хотят от меня? Моих картин, конечно! Они спят со мной, хотя им это, может, противно — а потом, потом они у меня просят картину, а они стоят двадцать, тридцать тыщ франков, не меньше, а иногда и больше! И если я им даю эту картину, то через два или три года они могут перепродать их за двойную и даже тройную цену. Даже сегодня, если им попадется богатый ценитель, это принесет неплохой навар. Так что, все это просто шлюхи! Я знаю, что я некрасивый и больной. Я даже не могу жизни радоваться, как люди. У меня даже ребенка не может быть. Какой же тогда смысл во всей этой любовной комедии и постельных моих отношениях со светскими дамами? На самом деле они ничуть не лучше, чем девушки с панели…»
«…Как-то вечером мы с ним возвращались из кино, и он захотел, чтоб я с ним осталась. Иногда он просто не мог выносить своего одиночества. Я пробыла с ним всю ночь. Любовью он занимался плохо. Может, он просто робел? Просто у него была большая потребность в нежности и дружбе. Он говорил о себе, о своем одиночестве, о своей работе и своем горьком разочаровании в жизни и в женщинах».
Вот такой рассказ. Конечно, многоопытная Маревна-Воробьева— Стебельская из чувашско-монпарнасской глуши — девушка грубая (я слышал, что забавные мемуары ее недавно вышли по-русски), но, может, воспроизведенные ею жалобы модного живописца Сутина и впрямь отражают его подозрительность, его неспособность к дружбе и любви, его обреченность.
Он мало-помалу растерял своих старых друзей. Оплакивал (но при этом нередко попрекал) Модильяни, злился на Кременя, с которым рассорился навсегда (часто хулил его живопись), редко виделся с почитавшим его (и тоже вышедшим в люди) Михаилом Кикоиным. Сын Кикоина Жак (художник Янкель, истинное дитя «Улья») так писал о дружбе отца и Сутина: «Если не считать Сутина, к которому он испытывал поистине братское, горячее и восторженное чувство дружбы, у отца моего было не много настоящих друзей. Когда успех принес ему деньги и „будущих вдов“, Сутин перестал узнавать друзей своих тяжких годов. Известна циничная фраза, которую он сказал одному старому другу-художнику, который упрекнул его в том, что он больше не появляется в „Улье“: „Шоферы такси не знают туда дорогу“.
Художники обычно блюдут культ дружбы в юности, а старея, часто замыкаются в себе и в своем искусстве, отгораживаясь от жизни».
Время от времени у Сутина появлялись новые знакомые. Одна из его многочисленных, часто меняемых в те годы студий находилась близ Монпарнаса, на углу экзотического Адского проезда (passage d' Enfer) и знаменитой улицы Кампань-Премьер. Там он и познакомился с соседом-художником Леонардо Бенатовым. Этот тридцатилетний живописец и антиквар (дома его звали Леон Буниатян) был лет на пять моложе Сутина, но успел уже пройти немалый путь. Он родился в армянском (ныне турецком) селении былой Эриванской губернии, лежащем близ тех блаженных, осененных Араратом мест, где полвека спустя автор этих строк отбывал солдатскую службу. Учился он у Машкова и Миганджана в московском училище, потом в мастерской Коненкова во ВХУТЕМАСе, рисовал кубистическое панно по заказу Комиссариата почт и еще что-то красочное на темы «борьбы за мир» для Военного комиссариата и Военных курсов. Управление военных учреждений присудило ему Первую премию за самые воинственные портреты вождей революции, а казна заказала ему очередной портрет вождя мировой революции Ленина. Все эти почести не вскружили голову разумному Бенатову, и, поехав в 1922 году за границу, он благоразумно решил не возвращаться (и тем самым, возможно, избежал судьбы своих знатных моделей). В ту пору, когда он познакомился с Сутиным, Бенатов был уже вторично женат — на дочери живописца Малявина — и жил по соседству, в знаменитом (премированном до войны парижской мэрией) доме № 31 по улице Кампань-Премьер (том самом, где жили Зинаида Серебрякова, Анненков, Мансуров, Ман Рэй и где я еще бываю иногда в гостях у милой Екатерины Борисовны Серебряковой, дочери Зинаиды Евгеньевны). От второго тестя (Филиппа Малявина) к Бенатову перешла целая коллекция рисунков этого блестящего мастера, и молодой художник решил заняться коллекционированием. Он проникся симпатией к Сутину, они вместе ездили на кровожадные матчи борьбы кэтч, до которых Сутин был великий охотник, и в результате Бенатов даже купил у Сутина картину.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Здесь шумят чужие города, или Великий эксперимент негативной селекции - Борис Носик», после закрытия браузера.