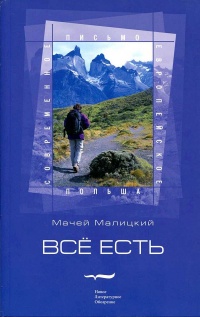Читать книгу "Великолепие жизни - Михаэль Кумпфмюллер"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
5
За долгое время это вообще первая история, в которую он хоть как-то верит, не сомневается, что закончит, и она в самом деле уже вскоре, можно считать, готова. Не длинная, всего несколько страниц, но, судя по всему, он и впрямь еще что-то может, у него даже возникает соблазн прочесть ее вслух, а это всегда было для него хорошим знаком. Он работает, он чувствует в себе силы, даже М. наконец-то смог написать, про сожженное письмо, и про свое тоже, это еще в июле было. Но с первых же строк он впадает в прежний тон, что, к сожалению, не в лучшую сторону влияет на точность выражения. С ним случилось нечто грандиозное, так он начинает, упоминает летний лагерь, свое, поначалу не очень твердое намерение вместо Палестины перебраться в Берлин, сколь бы невозможной ни казалась ему всегда самостоятельная жизнь в полном одиночестве, но и в этом отношении в Мюрице он обрел неоценимую, хотя в своем роде и неожиданною поддержку. И теперь вот он в Берлине, уже с конца сентября, похоже, не один, хотя иной раз кажется, что все-таки один. Он живет почти за городом, в вилле с садом, такой красивой квартиры у него никогда не было. Ест то-то и то-то, пишет он, со здоровьем все по-прежнему, затем, напоследок, торопливый поклон в сторону «духов воздуха», и даже слово «страх» не боится упомянуть, причем на весьма почетном месте, ибо этим словом, будто навсегда захлопывая за собой дверь, он письмо заканчивает. Два вечера ушло у него на это послание. Он рад, что М. не знает о его новой жизни, что она в Вене, недавно, судя по всему, побывала в Италии, все это от Штеглица очень далеко, можно считать, недосягаемо.
Этими днями приходит сразу много посылок и бандеролей, тщательно пронумерованных, чтобы ничего не пропало, что, к сожалению, иногда случается. Мать прислала бутылку красного вина, домашние тапочки, четыре тарелки, огромную бутыль малинового сока домашней заготовки, вдобавок, как обычно, масло и даже буханку грехемского хлеба, хотя ему теперь здешний, берлинский хлеб больше по вкусу. Завтра приезжает Оттла. Он послал ей список неотложно необходимых вещей — было бы неплохо привезти ему три кухонных полотенца, две скатерти, уже неоднократно упомянутый мешок для ног, которого он особенно ждет, — когда пишет, у него, к сожалению, постоянно мерзнут ноги.
На сей раз, в отличие от приезда Макса, он ни секунды не сомневается в успешности визита, и действительно, Дора и Оттла находят общий язык мгновенно, пусть, к сожалению, всего лишь на протяжении нескольких часов, ибо вечером того же дня сестре надо ехать обратно. Если у Оттлы и были кое-какие опасения относительно его берлинского житья-бытья, то теперь их как ветром сдуло. Она не устает нахваливать квартиру, загородную местность, да и состояние брата, судя по всему, не дает оснований для тревоги, сразу видно, что им, что «вам обоим» хорошо живется вместе, сколь бы ни трудна была, к сожалению, здешняя жизнь. Привезенные ею вещи встречены с огромной радостью, она даже спиртовку догадалась прихватить, что особенно радует Дору, а вслед за ней, разумеется, и саму Оттлу, — та помогает Доре на кухне, и он с удовольствием прислушивается к их дружеской, доверительной болтовне.
Под вечер, уже по дороге на вокзал, Оттла говорит ему, что очень хорошо его понимает. Дора совсем другая, не то, что мы, поэтому его к ней и тянет, разве нет? Во-первых, считает он, и нет смысла об этом умалчивать, она с востока, тем не менее между нею и сестрой много общего, практическая жилка, свойственная им обеим, то, как обе смеются… Отец — тот, конечно, ничего, кроме востока, и не увидит. Это, кстати, первый раз, когда они об отце не поговорили, вообще ни словом его не упомянули, за все четыре часа, — ведь оба, каждый на свой лад, уже ведут самостоятельную жизнь, сестра с Йозефом и девочками, а он сам с Дорой здесь, в их штеглицком гнездышке.
К собственному его изумлению он и дальше пишет без передышки. В ночь после отъезда Оттлы он начинает новую историю, понятия не имея, куда она его заведет, во всяком случае, уж никак не в Берлин, ведь разыгрывается она в подземелье, в жилище некоего зверя. Спит он уже которые сутки весьма посредственно, но он пишет, он живет с этой женщиной, вместе в одной квартире, — и тем не менее пишет. Историю про госпожу Херман он Доре уже успел прочесть, и та во многих местах смеялась, хотя на самом деле это история совсем не про госпожу Херман, но Доре это невдомек.
Сдается ему, он смотрит теперь не только в себя, а словно слегка повернув голову, словно вокруг него, сколь это ни удивительно, и вправду что-то нешуточно переменилось. Как будто все зависело только от этого: достаточно было всего лишь голову повернуть, и его взор разом обратился наружу, туда, где есть Дора и опыт общности, связывающей его с ней.
Он уже не раз писал о зверях, начиная с мельчайших тварей, вроде таракана, про обезьяну, про гигантского крота, про коршуна. О собаках и шакалах писал, и о леопарде немного, и о кошке, пожирающей мышь.
А начинается новая история так: «Я соорудил себе жилище, и, кажется, весьма удачное. Снаружи виден только большой лаз, который, однако, никуда не ведет: пройдя несколько шагов, натыкаешься на глухую скалистую стену».
Что еще новенького? Выпал первый снег, и сделалось очень холодно, солнца почти не видно, хотя иногда все-таки проглядывает, но он-то все равно уже много дней из дома почти не выходит.
Берлинцы голодают, со всех концов Европы в город поставляется продовольственная помощь, о чем он знает скорее понаслышке, изредка от Доры кое-какие подробности, когда та ходит за покупками или встречается с кем-нибудь в городе. К виду нищих на улицах все уже привыкли, к сожалению, теперь уже полгорода, можно считать, нищенствует, люди изнурены и пребывают в каком-то терпеливом отчаянии, в районе Шойненфиртель положение вообще ужасное, хотя ноябрьские попытки погромов больше не повторялись. Дора говорит, что еврейский Народный дом на последнем издыхании, ей хочется что-то делать, не только похлебку для бедняков варить, а именно предпринять что-то, как-то изменить все это.
Что правильнее: писать о жизни или изменять ее?
Отвечая на последнее письмо Роберта, он не столько даже объясняет, почему ничего не говорит о себе, сколько устанавливает данность, что это так и есть. Семье не пишет, Максу, полузабытому другу, тоже нет, не испытывая даже угрызений совести, тем паче что, по его ощущению, времени у него в обрез.
У него всего в обрез, и он не знает, хватит ли сил выдержать эту гонку, — хотя на самом деле времени у него много как никогда. Может, думает он, счастье — это и есть своего рода расточительство, когда вечерами, при скудном, экономном свете, они читают друг другу вслух, либо Дора на иврите из Библии, либо он ей что-нибудь из сказок братьев Гримм или из Хебеля[10], историю о рудокопе, ее он любит больше всего. В такие мгновения ему кажется, что времени у него сколько угодно, целая вечность еще, и что он его вовсе не транжирит, ибо точно знает, что через несколько минут сядет за свой письменный стол и не встанет из-за него, сколь бы ни томительно было искушение, когда она, подойдя, ласково к нему прижимается или когда сидит на софе, скрестив ноги по-турецки, в глазах смесь ожидания и опаски.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Великолепие жизни - Михаэль Кумпфмюллер», после закрытия браузера.