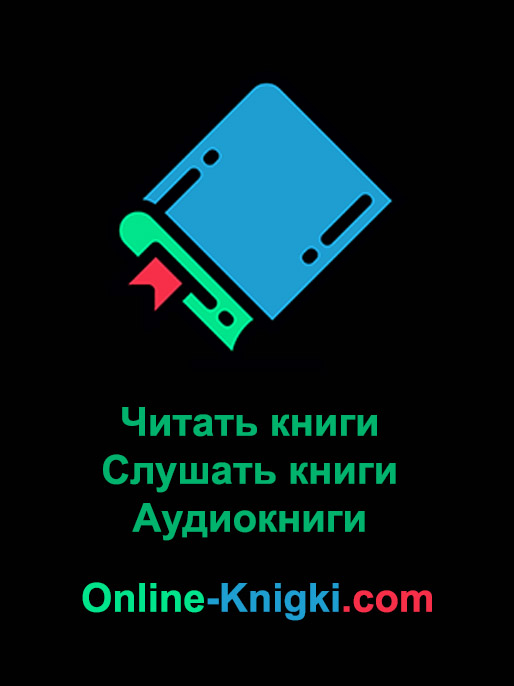Читать книгу "Рцы слово твердо. Русская литература от Слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова - Егор Станиславович Холмогоров"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но на то русский и не цыган, что в каждую секунду своего дорожного бытия он стремится к дому, к его прочности и обустройству, так безжалостно разрушаемому «гладом, губительством, трусом, потопом, огнем, мечем и междоусобной бранью» – столь обычными в нашем пространстве. В этой функциональной устремленности русской души к дому, бесконечно движущейся по гиперболе и никогда вполне дома не достигающей, кульминация русской исторической драмы.
Объективировал это чувство дороги Гоголь в своей «Руси-Тройке», но субъективное переживание вечного русского движения дает именно Пушкин – в «Дорожных жалобах», в «Бесах»: «Еду, еду в чистом поле; колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин!». «Онегин», напомню, начинается в дороге – «так думал молодой повеса летя в пыли на почтовых» – и заканчивается констатацией, что уж слишком долго мы бродили за Онегиным по свету.
Пушкин пытался написать «Путешествие Онегина» в подражание «Паломничеству Чайльд-Гарольда», но этот замысел не удался, как и ответ на вопрос «Куда ж нам плыть?» в «Осени».
Байроническое путешествие для Пушкина невозможно. Гарольд, как и подобает истинному англичанину, на самом деле остаётся недвижен: движутся лишь нарисованные декорации вокруг него, о которых он отпускает патетические или саркастические комментарии. Точности политолога при анализе исторического процесса в Средиземноморье Байрону не занимать. Но, подобно декорационном кругу, в театре, всё в этом байроновском путешествии должно вернуться на прежнюю точку. Как у Честертона – отправиться в дальнее плавание, чтобы, в конечном счёте, найти самую далекую и таинственную из стран – Англию.
Но я рожден на острове Свободы
И Разума – там родина моя…
Моя душа! Ты в выборе вольна.
На родину направь полёт свободный…
Английское путешествие – это пространственная тавтология.
Пушкин иногда пытается путешествовать с той же декорационностью:
В лугах несется конь черкеса,
И вкруг кочующих шатров
Пасутся овцы калмыков,
Вдали – кавказские громады:
К ним путь открыт. Пробилась брань
За их естественную грань,
Чрез их опасные преграды;
Брега Арагвы и Куры
Узрели русские шатры.
Но это не Пушкин. И Пушкин никогда не был бы Пушкиным, если бы писал только так. У настоящего Пушкина двигаться должны не картинки, а сам субъект действия. Он должен нестись вперед с такой скоростью, чтобы мир вокруг него ни в какой пейзаж отстроиться не успевал, рассыпаясь в дробь весёлого ярмарочного кавардака.
Пошёл! Уже столпы заставы
Белеют: вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
Можно подумать, что перед нами попытка передать ритм конской скачки. Но нет, здесь чистая динамика субъекта, взятого в его интенциональности. Галоп мысли, едва успевающей узнавать то, что проносится мимо. Пушкин сам разоблачает сущность этого приёма в черновиках к «Осени»:
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с чётками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,
Царевны пленные и злые великаны…
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы лёгкие навстречу им бегут…
Перед нами та цепная реакция мысли, которая составляет суть Пушкина, русской поэзии, русской литературы, русского мышления как такового. Потом этот мысленный вихрь подхватит Заболоцкого и унесет его к знакам Зодиака.
Наш ум может быть не систематичен, недостаточно фундаментален, не создает канона и энциклопедии. Русская мысль предпочитает прийти и раскинуться клоками… Одного нельзя сказать о русском уме: он никогда не бывает тугим. В нём всегда та ярость трудной авральной работы, которая некогда без остатка пожирала нелюбимое Пушкиным лето. Такое короткое, особенно в Михайловском.
III.
Эдуард Лимонов в «Священных монстрах» назвал Пушкина «поэтом для календарей». Помимо естественного желания узника правды как следует обслужить «клиента» недавнего помпезного лужковского «двухсотлетия», тут заключена простая истина: описания времен года у Пушкина идеальны. «Зима, крестьянин торжествуя…», «Гонимы вешними лучами…» и целый куст сонетов любимой осени.
Думаю, что Лимонов не подозревает, до какой степени прав в этих по мальчишески задиристых (на момент написания книги он был старше Пушкина на четверть века) нападках. Для меня, к примеру, Пушкин действительно открылся через календарь. Одним из сокровищ нашей домашней пушкинианы, наряду со сборником эпиграмм, прекрасно иллюстрированным Кузьминым (его читать мне пока не дозволялось – сборник проникнут сексизмом, гомофобией, бунтарством и иерохульством), был «Пушкинский календарь» выпущенный в 1937 году к столетию со дня смерти поэта. В редколлегии числились знаменитости: Благой, Бонди, Вересаев, Томашевский, Эйхенбаум.
Прекрасно изданная и иллюстрированная книга не слишком обременяла и биографической хроникой, за вычетом повторения нелепой теории о «заговоре царя против Пушкина». Она представляла собой увлекательную хрестоматию молодого пушкиниста. Введение в большой пушкинский мир для начинающих, каковым был я в свои четыре года. Отрывки из Пушкина, отрывки о Пушкине, справки, дневники, письма, картинки, много картинок, и даже анекдоты.
Я до сих пор помню немало анекдотов о Пушкине – про саранчу или про мальчишескую шутку над камердинером Трико. Но из того календаря помню такой:
«Генерал Орлов сказал Пушкину: – Берегись, чтобы не услали тебя за Дунай; – А может быть и за Прут, – ответил Пушкин каламбуром». Дунай и Прут до Крымской войны были пограничными землями Российской Империи, и Пушкин отпустил двусмысленный каламбур о выборе между задуманным им бегством за границу и крепостью.
С маниакальной настойчивостью «Календарь» вновь и вновь возвращался к желанию Пушкина эмигрировать, как бы сегодня выразился носитель духа просвещения и недошнурованных кед: «свалить из Рашки». Если вспомнить атмосферу 1937 года, мне чудится в этом некоторое вредительство на пушкинском фронте. «Невозвращенец» – страшное слово. Не говоря уж о том, сколько выходило тогда на Западе литературы за авторством тех, кто незаконно пересек границу «Совдепии» и добровольно убежал от коммунизма. Позднее я прочту воспоминания о бегстве секретаря Сталина Бориса Бажанова, писателя-антисоветчика Ивана Солоневича и узника Соловков протоиерея Михаила Польского.
И вдруг, на этом фоне на страницу выносится крупно
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Рцы слово твердо. Русская литература от Слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова - Егор Станиславович Холмогоров», после закрытия браузера.