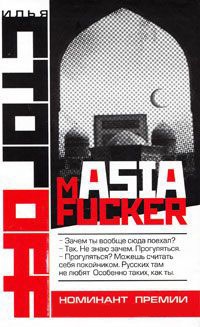Читать книгу "Южный календарь - Антон Уткин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И говорили, что никто не забыт, и ничто не свершается даром.
Утром на берегу жалобно вскрикивали чайки.
1998
Она – моя соседка – живет на четвертом этаже пятиэтажного дома. Кое-что о ней известно. Квартира у нее однокомнатная, оба окна выходят в палисадник. Со стороны палисадника дом огибает неширокая дорога, по которой то и дело ездят автомобили. В палисаднике растут кусты крыжовника и смородины, которые она сама когда-то сажала, когда получила эту квартиру и переехала сюда из общежития. Там же растут две липы, пихта и каштан. Зимой их ветки запорошены, белы, с пихты на снег сыпятся пересохшие иглы и шишки, а весной, и особенно летом, листья создают непроницаемую тень и в комнате даже солнечным днем бывает сумрачно.
Рано утром, когда брезжит рассвет и воздух в комнате становится сероват, она выглядывает на балкон. На балконе стоит корыто, коробки и погнившие ящики для цветов. Она смотрит, остался ли корм, и подсыпает крупы – пшена или бежевой ячки – в крышку от коробки из-под шоколадных конфет, которая привязана к перилам балкона обрывком проволоки. Крышка покоробилась от влаги, тонкий картон весь покрыт птичьим пометом. На крышке красивая картинка: дымится крепко заваренным чаем фарфоровая чашка, а вокруг на блюдечках лежат печенья, похожие на бантики, и конфеты в вазочке. Откуда взялась крышка, она не помнит, потому что сама таких конфет давно не покупает. Снегирей и синиц она не видела тоже давно, куда-то они подевались. Прилетают воробьи и редко голуби.
По ночам в доме напротив всегда светится одно-единственное из всех угловое окно, на три четверти прикрытое зеленой шторой. В течение многих лет свет в этом окне горел обычно всю ночь напролет и гас всегда в то самое время, когда она поднималась с постели. Иногда среди ночи она просыпалась, смотрела на него и любила представлять, что освещает этот свет и чему он служит. Так продолжалось неизменно изо дня в день, точнее, из ночи в ночь, и она привыкла к свету окна, как к свету звезды или фонаря.
В узком коридорчике на стуле с округлой спинкой стоит телефонный аппарат. Она за него исправно платит, хотя ей никто давно уже не звонит и она никому не звонит, потому что звонить, в сущности, некому. Впрочем, иногда телефон испускает пронзительный тревожный сигнал, как будто стремится распороть тишину темного коридора. Она аккуратно, бережно снимает массивную трубку. Просят или Свету, или Анатолия Васильевича. Но это случается редко – раз в два месяца или того реже.
Телевизор давно поломался, и починить его нет денег. Так он и стоит на полированной тумбе, завешенный салфеткой, а на нем помещается будильник с белым полем и посеребренными на концах стрелками. Зато на кухне бормочет радио. Приемник старый, из тяжелой пластмассы черного цвета, с бежевой сеточкой динамика. Раньше она прислушивалась к голосам, а потом повернула ручку громкости, потому что перестала понимать, о чем там говорят.
Когда-то давно она ходила в кино и за ней ухаживал парень. Он был сильный и веселый. Они поженились. Еще в клубе был спортивный зал, бывало, они заходили туда вместе. Он скидывал пиджак, пробовал тяжести, а она стояла у стенки и смотрела, как он поднимает гирю с облупившейся краской, и почти всегда сбивалась со счета. И когда вечером шли домой, не спеша шагая рядом, и он, забросив пиджак на плечо, обнимал ее тяжелой рукой и осторожно прижимал к себе, ей было хорошо и спокойно, и она ощущала прочность остывающей земли. Тогда он работал помощником машиниста на товарной станции низкого пыльного восточного города, и она носила ему обед, пробираясь через запасные пути между цепочками теплушек. Ей нравилась железная дорога, и горячий на солнце запах полированных рельсов был ей приятен.
Когда началась война, у машинистов была бронь, на фронт их не пускали, и однажды его отравили в столовой мышьяком, – не только его, всю его колонну: тридцать восемь машинистов и помощников.
На станции ей дали телегу ехать за телом. Лошадь попалась старая и никуда не хотела идти, а улица была вся в лужах и глубоких колеях, и тихонько громыхал пустой неокрашенный гроб у нее за спиной, испуская бодрый запах нового дома. Она не плакала, а смотрела отрешенно и даже удивлялась этому, и в ней жили тогда словно бы два человека, и оба молчали, просто один думал, а второй – нет.
Тело вынесли со сторожем-стариком, он держал под мышки, а она за ноги, но уложить его на спину у них не хватило сил, и тело, зацепившись за стенку гроба, упало набок, как будто это пьяный свалился спать.
На обратном пути пошел мелкий дождь, холодный и ленивый, укрыться было негде, так как улица состояла из глухих заборов, тянувшихся сплошь, и лошадь еле переставляла ноги и уже не отзывалась ни на понукания, ни на лозину, а то и вовсе надолго останавливалась, и приходилось спрыгивать в воду и тянуть ее за морду. Наступила уже ночь, а до станции было еще не близко. Ветер, летевший навстречу между постройками, не останавливался ни на минуту и еще больше сбивал несчастную лошадь, беспомощно воротившую понурую голову. Пришлось наконец повернуть к тетке покойного мужа, которая жила по пути, но та сказала, что боится мертвецов, и она пошла дальше, перебросив повод и таща лошадь за собой, и так пришла к дому перед рассветом.
Утром хоронили, и тетка, явившаяся в сильно приталенном бордовом пальто, сшитом портным эвакуированной киностудии, много пила водки и плакала почему-то больше других.
Странно это, но войну она помнит очень хорошо, а то, что было дальше, помнит хуже; да и помнить-то особенно нечего – жизнь как жизнь.
А сейчас она ходит в поликлинику. В поликлинике все таинственно и чисто, как в храме. Дорожки линолеума блестят матовым светом, стоят пальмы в зеленых кадках, а в горшках, облитых переливающейся бликами лазурью, произрастают цветы, а сами горшки висят в железных кольцах, на треногах сваренных и покрашенных арматурных прутьев. Она подолгу сидит в жестком кресле, которое кажется ей мягким – это такие пустяки. Мимо ходят врачи и молоденькие сестры, все в белом, в мягких тапочках, так что шагов их почти не слыхать.
Вот она приходит с улицы, из магазина, выкладывает из тряпичной сумки рис, гречку в бумажных пакетах. Прячет хлеб в железную хлебницу, а потом считает деньги, сдачу. Бумажные она распрямляет, разглаживает и размещает их по достоинству, а монеты складывает в мыльницу. Видит она уже плохо и подносит монеты к самым глазам, разбирая номинал.
А в хорошую погоду гуляет во дворе. Сидя на скамье, она следит, как на площадке играют дети – маленькие, веселые, неуемные зверьки. Мамы у них важные, некоторые в дорогих шубах, другие в ярких нарядных куртках; они стоят кучками и, переговариваясь, наблюдают за малышами, подходят к ним то и дело, вытирают им носы и отряхивают.
Вечером она варит кашу. Вспыхивает газ, распуская вокруг рожка синие лепестки, и сгоревшая спичка падает в пластиковую баночку из-под сметаны. Пока алюминиевая кастрюля шипит и фыркает на маленьком огне, она сидит на круглой табуретке, положив руки на колени – одна на другую, и коричневые, тяжело налитые пальцы тихонько шевелятся от старости. Обратив глаза к дощатому полу, она терпеливо ждет и время от времени пожевывает фиолетовыми губами.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Южный календарь - Антон Уткин», после закрытия браузера.