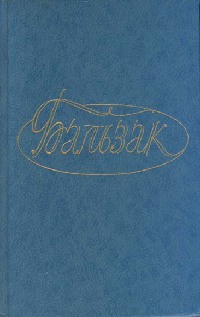Читать книгу "Шагреневая кожа - Оноре де Бальзак"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Привыкнув с юности высоко ценить окружавшие меня предметы роскоши, я не мог не выразить удивления при виде столь скудного остатка.
— Да уж очень все это было рококо! — сказал оценщик.
Ужасные слова, от которых поблекли все верования моего детства и рассеялись первые, самые дорогие из моих иллюзий. Мое состояние заключалось в описи проданного имущества, мое будущее лежало в полотняном мешочке, содержавшем в себе тысячу сто двенадцать франков; единственным представителем общества являлся для меня оценщик, который разговаривал со мной, не снимая шляпы… Обожавший меня слуга Ионафан, которому моя мать обеспечила когда-то пожизненную пенсию в четыреста франков, сказал мне, покидая дом, откуда ребенком я не раз весело выезжал в карете:
— Будьте как можно бережливее, сударь. Он плакал, славный старик!
Таковы, милый мой Эмиль, события, которые сломали мою судьбу, на иной лад настроили мою душу и поставили меня, еще юношу, в крайне ложное социальное положение, — немного помолчав, заговорил Рафаэль. — Узами родства, впрочем слабыми, я был связан с несколькими богатыми домами, куда меня не пустила бы моя гордость, если бы еще раньше людское презрение и равнодушие не захлопнули перед моим носом дверей. Хотя родственники мои были особы весьма влиятельные и охотно покровительствовали чужим, я остался без родных и без покровителей. Беспрестанно наталкиваясь на преграды в своем стремлении излиться, душа моя, наконец, замкнулась в себе. Откровенный и непосредственный, я поневоле стал холодным и скрытным; деспотизм отца лишил меня всякой веры в себя; я был робок и неловок, мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности, я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда. Вопреки тому внутреннему голосу, который, вероятно, поддерживает даровитых людей в их борениях и который кричал мне: «Смелей!
Вперед! «; вопреки внезапному ощущению силы, которую я иногда испытывал в одиночестве, вопреки надежде, окрылявшей меня, когда я сравнивал сочинения новых авторов, восторженно встреченных публикой, с теми, что рисовались в моем воображении, — я, как ребенок, был не уверен в себе. Я был жертвою чрезмерного честолюбия, я полагал, что рожден для великих дел, — и прозябал в ничтожестве. Я ощущал потребность в людях — и не имел друзей. Я должен был пробить себе дорогу в свете — и томился в одиночестве, скорее из чувства стыда, нежели страха. В тот год, когда отец бросил меня в вихрь большого света, я принес туда нетронутое сердце, свежую душу. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. Среди моих сверстников я встретил кружок фанфаронов, которые ходили задрав нос, болтали о пустяках, безбоязненно подсаживались к тем женщинам, что казались мне особенно недоступными, всем говорили дерзости, покусывая набалдашник трости, кривлялись, поносили самых хорошеньких женщин, уверяли, правдиво или лживо, что им доступна любая постель, напускали на себя такой вид, как будто они пресыщены наслаждениями и сами от них отказываются, смотрели на женщин самых добродетельных и стыдливых как на легкую добычу, готовую отдаться с первого же слова, при мало-мальски смелом натиске, в ответ на первый бесстыдный взгляд! Говорю тебе по чистой совести и положа руку на сердце, что завоевать власть или крупное литературное имя представлялось мне победой менее трудной, чем иметь успех у женщины из высшего света, молодой, умной и изящной. Словом, сердечная моя тревога, мои чувства, мои идеалы не согласовывались с правилами светского общества. Я был смел, но в душе, а не в обхождении. Позже я узнал, что женщины не любят, когда у них вымаливают взаимность; многих обожал я издали, ради них я пошел бы на любое испытание, отдал бы свою душу на любую муку, отдал бы все свои силы, не боясь ни жертв, ни страданий, а они избирали любовниками дураков, которых я не взял бы в швейцары. Сколько раз, немой и неподвижный, любовался я женщиной моих мечтаний, появлявшейся на балу; мысленно посвящая свою жизнь вечным ласкам, я в едином взоре выражал все свои надежды, предлагал ей в экстазе юношескую свою любовь, стремившуюся навстречу обманам. В иные минуты я жизнь свою отдал бы за одну ночь. И что же? Не находя ушей, готовых выслушать страстные мои признания, взоров, в которые я мог бы погрузить свои взоры, сердца, бьющегося в ответ моему сердцу, я, то ли по недостатку смелости, то ли потому, что не представлялось случая, то ли по своей неопытности, испытывал все муки бессильной энергии, пожиравшей самое себя. Быть может, я потерял надежду, что меня поймут, или боялся, что меня слишком хорошо поймут. А между тем в душе у меня поднималась буря при первом же любезном взгляде, обращенном на меня. Несмотря на свою готовность сразу же истолковать этот взгляд или слова, по видимости благосклонные, как зов нежности, я то не осмеливался заговорить, то не умел вовремя умолкнуть. От избытка глубокого чувства я говорил ничего не значащие слова и даже молчание мое становилось глупым. Разумеется, я был слишком наивен для того искусственного общества, где люди живут напоказ, выражают свои мысли условными фразами или же словами, продиктованными модой. К тому же я совсем неспособен был к ничего не говорящему красноречию и красноречивому молчанию. Словом, хотя во мне кипели страсти, хотя я и обладал именно такой душой, встретить которую обычно мечтают женщины, хотя я находился в экзальтации, которой они так жаждут, и полон был той энергии, которой хвалятся глупцы, — все женщины были со мной предательски жестоки. Вот почему я наивно восхищался всеми, кто в дружеской беседе трубил о своих победах, и не подозревал их во лжи.
Конечно, я был не прав, ожидая столкнуться в этом кругу с искренним чувством, желая найти сильную и глубокую страсть в сердце женщины легкомысленной и пустой, жадной до роскоши и опьяненной светской суетой — найти ту безбрежную страсть, тот океан, волны которого бушевали в моем сердце. О, чувствовать, что ты рожден для любви, что можешь составить счастье женщины, и никого не найти, даже смелой и благородной Марселины[46], даже какой-нибудь старой маркизы! Нести в котомке сокровища и не встретить ребенка, любопытной девушки, которая полюбовалась бы ими! В отчаянии я не раз хотел покончить с собой.
— Ну и трагичный выдался вечер! — заметил Эмиль.
— Ах, не мешай мне вершить суд над моей жизнью! — воскликнул Рафаэль.
— Если ты не в силах из дружбы ко мне слушать мои элегии, если ты не можешь ради меня поскучать полчаса, тогда спи! Но в таком случае не спрашивай меня о моем самоубийстве, а оно ропщет, витает передо мною, зовет меня, и я приветствую его. Чтобы судить о человеке, надо по крайней мере проникнуть в тайники его мыслей, страданий, волнений. Проявлять интерес только к внешним событиям его жизни — это все равно, что составлять хронологические таблицы, писать историю на потребу и во вкусе глупцов.
Горечь, звучавшая в тоне Рафаэля, поразила Эмиля, и, уставив на него изумленный взгляд, он весь превратился в слух.
— Но теперь, — продолжал рассказчик, — все эти события выступают в ином свете. Пожалуй, тот порядок вещей, прежде казавшийся мне несчастьем, и развил во мне прекрасные способности, которыми впоследствии я гордился.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Шагреневая кожа - Оноре де Бальзак», после закрытия браузера.