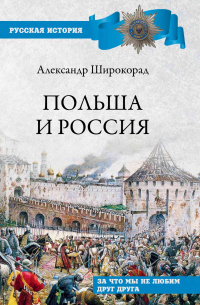Читать книгу "Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества - Лев Клейн"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Устное предание, фольклор, еще сложнее для анализа, чем письменная традиция. Но фольклор как исторический источник (в частности, по истории культуры) — старый конек Рыбакова. И старый предмет его спора с фольклористами. Эти специалисты давно преодолели так называемую «историческую школу» фольклористики, господствовавшую в конце XIX века. Представители этой школы с наивной прямолинейностью подыскивали всем образам и сюжетам фольклора конкретные соответствия в летописях, игнорируя специфику фольклора как вида искусства и забывая о роли в нем художественного вымысла.
Один из лидеров нового подхода В. Я. Пропп (1955: 24) так охарактеризовал русский героический эпос: «Былины отражают не единичные события истории, они выражают вековые идеалы народа». Детали истории и имена исторических деятелей, конечно, проникают в фольклор, но обычно не они определяют сюжеты, а когда некоторые события все же дают начало сюжетам, то потом с ними происходят радикальные трансформации по законам жанра. Я бы добавил к этому, что часто содержание героического эпоса прямо противоположно исторической реальности. В русских былинах русские богатыри без удержу громят татар, а на деле было татарское иго. В сербских песнях сербские воины берут штурмом турецкую столицу Стамбул, а на деле было не взятие сербами Стамбула, а их полный разгром на Косовом поле. Под большим сомнением и гомеровское взятие Трои-Илиона ахейцами. Все это видения желанных побед на месте реальных поражений.
Рыбаков же поднял на щит максиму академика Грекова: «Былины— это история народа, рассказанная им самим», обвинив Проппа и его сторонников в «антиисторизме» (Рыбаков 1961). В своем ответе Пропп подробно раскрыл специфику фольклора как жанра и как исторического источника и, показав ущербность упрощенных извлечений истории из фольклора, обосновал необходимость специальной подготовки для исторической интерпретации фольклора (Пропп 1962; см. также Путилов 1962).
В последующее время Рыбаков издал большой труд (1963а), где в традициях XIX в. продолжал отыскивать в былинах исторических героев и конкретные события истории. Он проявил в этом большую наблюдательность и эрудицию, многие его сопоставления убеждают, они позволяют датировать создание тех или иных мотивов или, по крайней мере, определить для них termini ante quem. Надо признать, что из всего фольклора именно в былинах больше, чем где бы то ни было (если не считать исторических песен), можно действительно найти имена и детали истории (идя от летописи к былинам), но нельзя по ним восстанавливать события истории (продвигаясь от былин к хронике). А именно такую задачу ставил Рыбаков.
Можно оспаривать некоторые отдельные гипотезы Проппа о происхождении былинных мотивов и сюжетов, как это делает Рыбаков, но общий подход Проппа основательнее. Он искал в былинах поэтическое развитие образов, почерпнутых из мифологии (например, борьба с чудовищем), развитие их в новых условиях героического века. Рыбаков же считает (1963а: 42—43), что образы «из мифологического реквизита» использовались как «символическое иносказание» исторических событий наступившего времени. Например, Змей Горыныч — это символ язычества, противостоящий христианизации. Для церкви — да, но для народных сказителей? Ведь Идолище Поганое — это в буквальном переводе «статуя языческого божества» (от греч. eíSooAov — «изображение», «кумир» и лат. paganus «яычник»). Сказители, конечно, получили это выражение из проповедей в церкви —как обозначение чего-то зловредного и враждебного, но они даже не поняли смысл выражения, а просто наложили кличку на старый образ чудища, побеждаемого сказочным героем. Более подробная критика этой книги Рыбакова дана в работах Астаховой (1966: 72-75) и Проппа (1968: 5-25).
В новом, двухтомном, труде Б. А. Рыбакова, рассматриваемом здесь, заметен некоторый сдвиг, и наиболее интересными являются как раз те места, где он, следуя В. Я. Проппу и Е. М. Мелетинскому, углубляет корни былин в слои мифические (увязка Змея- Горыныча с образом змееборца-первокузнеца, культурного героя—I, с. 538-548, во втор. изд. 717-738, 775-807). Однако Рыбаков и здесь верен себе — немедленно привязывает сюжет к конкретным событиям истории. Так, в сказке про кузнеца говорится о Змиевых валах (это этиологическая легенда). Археологическая традиция определяет Змиевы валы как сооружения ранне- скифского времени. Значит, заключает Рыбаков, сказка живет у славян именно с этого времени (как будто не могли ее привязать к реальным валам позже!), а первокузнец и впрямь олицетворяет смену бронзового века железным. В итоге ведется речь о столкновении славян с киммерийцами (которые исчезли в Причерноморье за тысячу лет до появления там славян!) и даже о том, что «славяне применяли при постройке своих первых укреплений пленных киммерийцев» (с. 546, во втор. изд. 736). Какова конкретность знания!
Еще экстравагантнее выглядит привязка не былинных, а сказочных мотивов к историческим реалиям. Фантастическим объектам сказки Рыбаков старается непременно подыскать простые и конкретные прототипы в реальной истории, чудесам — бытовые и естественные объяснения (подобный тип объяснения называется эвгемерическим по имени типичного представителя этого метода греческого философа III в. до н. э. Эвгемера). У Змеев, отраженных в валах, были еще и жены. «Змеихи-жены, — пишет Рыбаков, — это не амазонки, самостоятельные воительницы матриархата. Это — просто женское население, оставленное в тылу и не принимавшее участия в нападении» (с. 595, втор. изд. 806).
Фантастичность всех этих построений еще отчетливее выступает в свете того, что Змиевы валы, по археологическим данным, относятся не к скифскому времени, а к славянскому (Kowalczyk 1969; 1970; Кучера, Юра 1975; 1976; Кучера 1987). Мы оказываемся перед странной картиной профессионального археолога, который игнорирует факты археологии в угоду своим патриотическим фантазиям.
Путешествие со Змеем Горынычем вглубь тысячелетий не оканчивается на Змиевых валах «скифской эпохи». На роль реального прототипа Змея Горыныча академик выдвигает... мамонта (с. 129-130, во втор. изд. 173-175). В сказке есть мотив встречи героя с огнедышащим Змеем на Калиновом мосту через огненную реку. Рыбаков воображает, что мост из калины — это тонкое покрытие ловчей ямы, куда должен провалиться мамонт. Исследователь оставляет в стороне разработки специалистов о символическом значении калины как растения, связанного в русском фольклоре с утратой девичества, выходом девушки замуж (Вакуров 1985; 1987; Мокиенко 1986: 249-250). А ведь Змей Горыныч как раз и хочет увести с собой девушку, герой же ее отстаивает. Известно и постоянное приравнение (в песне и обряде) похорон к свадьбе, свадьбы — к похоронам, к переходу через реку, за которой мир иной. Змей Горыныч здесь явно мифическое чудище с того света, которое герою-жениху в духе «переходных обрядов» надо победить, чтобы получить жену. Вот в чем смысл Калинового моста, если развить идеи Проппа об образе Змея Горыныча. А как аргументирует Рыбаков?
«Не думаю, что будет большой натяжкой, — пишет он, — признать в этих сказочных приметах чудища обрисовку древнего мамонта (или мамонтов), загнанного огненной цепью загонщиков в ловчую яму, в подземелье, замаскированное ветками кустарников (калины). Длинношерстые мамонты, прорываясь сквозь «огненную реку», могли и сами быть носителями огня». И так далее.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества - Лев Клейн», после закрытия браузера.