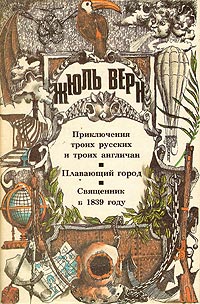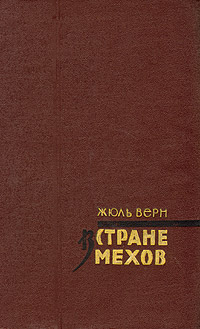Читать книгу "Париж 100 лет спустя - Жюль Верн"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ни в коем случае, — согласился Мишель.
— После ужина, если не будет возражений, мы вчетвером совершим отличную прогулку.
— Замечательно, дядюшка! Это станет отличным завершением дня.
— Но что это, Мишель, ты больше не ешь и не пьешь?
— Как же, как же, дядюшка, — возразил Мишель, задыхавшийся от наплыва чувств, — за ваше здоровье!
— И за нашу следующую встречу, дитя мое; ведь когда мы с тобой расстаемся, мне кажется, что ты уезжаешь в долгое путешествие. Ну ладно, расскажи мне, как и чем ты живешь, пришел час откровений.
— Охотно, дядюшка.
Мишель в мельчайших подробностях поведал о своем существовании, о своих неприятностях, отчаянии, не забыв упомянуть о приключениях в кассе-ловушке, и, наконец, о светлых днях на макушке Главной Книги.
— Именно там, — сказал юноша, — я обрел первого друга.
— А, так у тебя есть друзья, — отозвался дядя, нахмурив брови.
— У меня их двое, — ответил Мишель.
— Этого может оказаться слишком много, если они тебя подведут, — глубокомысленно заметил наш добрейший дядюшка, — и этого достаточно, если они тебя будут любить.
— О, дядюшка, — с горячностью воскликнул юноша, — они — артисты!
— Да, конечно, — дядя кивнул головой в знак согласия, — это служит гарантией, я понимаю, ведь в статистике постояльцев каторги и тюрем есть священники, адвокаты, дельцы, менялы, банкиры, нотариусы и ни одного артиста; и все же…
— Вы узнаете их, дядюшка, и увидите, какие это хорошие ребята!
— С удовольствием, — согласился г-н Югенен, — я люблю молодежь, но при условии, чтобы она была молодой! Преждевременные старцы всегда кажутся мне лицемерами.
— За этих двоих я ручаюсь!
— Что же, Мишель, судя по людям, с которыми ты общаешься, твои принципы не изменились?
— Скорее наоборот, — сказал юноша.
— Ты упорствуешь в грехе?
— Да, дядюшка.
— Тогда, несчастный, исповедуйся мне в твоих последних прегрешениях.
— Охотно, дядюшка!
И юноша вдохновенно продекламировал превосходные стихи, глубокие, безупречные по форме, полные подлинной поэзии.
— Браво, — восклицал охваченный энтузиазмом дядя Югенен, — браво, дитя мое, так, значит, такие вещи еще создаются! Ты говоришь на языке прекрасного прошлого. О, сын мой, какую радость и одновременно какую боль ты мне причиняешь!
Старик и юноша умолкли.
— Хватит, хватит, — сказал дядюшка. — Уберем этот стол, он нам мешает.
Мишель помог дяде, и столовая в мгновение ока снова стала библиотекой.
— Ну же, дядюшка? — начал Мишель.
— А теперь — за десерт, — подхватил дядя, указывая на заполненные книгами полки.
— Ко мне возвращается аппетит, — отозвался Мишель, — набросимся теперь на пищу иного рода.
Дядя и племянник с одинаково молодым задором принялись перелистывать книги, переходя от одной полки к другой, но г-н Югенен быстро положил конец этому беспорядочному рысканию.
— Иди сюда, — сказал он Мишелю, — начнем сначала; сегодня чтение не входит в программу, мы будем обозревать и беседовать. Это будет скорее парад, нежели сражение; представь себе Наполеона во дворе Тюильри, а не на поле Аустерлица. Заложи руки за спину, мы пройдем вдоль рядов.
— Я следую за вами, дядюшка.
— Сын мой, приготовься к тому, что перед тобой продефилирует самая прекрасная армия в мире: ни одна другая страна не смогла бы выставить подобную ей — армию, которая одержала бы столько блестящих побед над варварством.
— Великая армия[38]Словесности.
— Взгляни на первую полку, вот стоят одетые в латы красивых переплетов наши старые ворчуны[39]XVI века: Амьо, Ронсар, Рабле, Монтень, Матюрен Репье. Они верно несут стражу, и по сию пору их изначальное влияние присутствует в нашем прекрасном французском языке, чьи основы заложили именно они. Но, надо признать, они сражались больше за идею, чем за форму. А вот рядом с ними генерал, отличавшийся прекрасным, неподражаемым мужеством; но, главное, он усовершенствовал бывшее тогда в ходу оружие.
— Малерб, — вставил Мишель.
— Он самый. Как он когда-то признался, его учителями были грузчики Сенного порта; он ходил туда собирать их метафоры, их типично галльские словечки; он их отчистил, отполировал и сотворил из них тот замечательный язык, которым говорили в семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках.
— Ага, — воскликнул Мишель, указывая на одинокий том, выделявшийся своим суровым и гордым видом, — вот великий полководец!
— Да, дитя мое, подобный Александру, Цезарю или Наполеону; последний сделал бы его принцем, этого старого Корнеля, вояку, породившего массу себе подобных: его академические издания бессчетны, ты видишь пятьдесят первое и последнее издание полного собрания его сочинений, оно относится к 1873 году, и с тех пор Корнеля не переиздавали.
— Наверное, дядюшка, трудно было добыть все эти книги!
— Напротив, все избавляются от них! Посмотри, вот сорок девятое издание полного собрания сочинений Расина, сто пятидесятое — Мольера, сороковое — Паскаля, двести третье — Лафонтена, все — последние, всем более ста лет, и все они — лишь услада библиофилов! Эти великие гении сделали свое дело, и теперь им место на полке археологических древностей.
— Ив самом деле, — заметил Мишель, — они говорят на языке, который сегодня был бы непонятен.
— Ты прав, дитя мое! Прекрасный французский язык утрачен. Язык, избранный для выражения мыслей знаменитыми иностранцами — Лейбницем, Фридрихом Великим, Анциллоном, Гумбольдтом, Гейне, этот изумительный язык, заставивший Гёте сожалеть, что не писал на нем, это элегантное наречие, что в пятнадцатом веке чуть не было подменено латынью или греческим, а также итальянским при правлении Екатерины Медичи и гасконским при Генрихе IV, — сейчас превратился в отвратительный жаргон. Всяк выдумывал свое слово для обозначения того, чем занимался, забывая, что лучше иметь язык удобный, нежели богатый. Специалисты по ботанике, естественной истории, физике, химии, математике соорудили чудовищные словосочетания, изобретатели почерпнули свои неблагозвучные термины из английского, барышники для своих лошадей, жокеи для своих бегов, продавцы экипажей для своих машин, философы для своей философии — все нашли, что французский язык слишком беден и ухватились за иностранные! Ладно, тем лучше, пусть они забудут его! Французский еще прекраснее в бедности, он не захотел стать богатым, проституируя себя! Наш с тобой язык, дитя мое, язык Малерба, Мольера, Боссюэ, Вольтера, Нодье, Виктора Гюго — это хорошо воспитанная девица, ты можешь любить ее без опасений, ибо варварам двадцатого века не удалось сделать из нее куртизанку!
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Париж 100 лет спустя - Жюль Верн», после закрытия браузера.