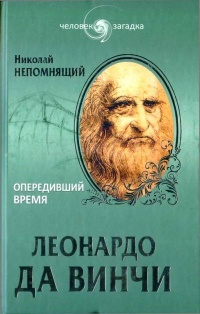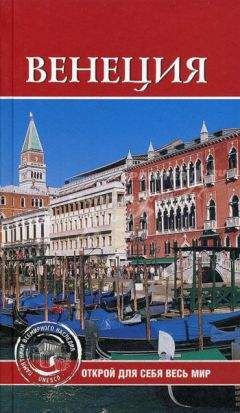Читать книгу "Образы Италии - Павел Павлович Муратов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Никакой другой архитектор не был так чужд шаблону и постоянной формуле. Каждое свое здание Палладио решал наново не только в общем, но и во всех частностях. Гениально одаренный чувством пропорции, он поражает крайним разнообразием своих пропорций. Вариации меры в его колоннах и его ордерах неисчерпаемы, расчленения фасадов и деление планов всякий раз «изобретены» им по-иному. Палладио ни разу не повторил себя, и в то же время все, что им создано, могло быть создано именно им, и только им одним. В этом истинная классичность его искусства, искавшего и нашедшего единство в многообразии.
Независимо от рода его искусства и от его эпохи и места в истории, Палладио изумляет как явление исключительной творческой насыщенности. Замыслы, идеи, осуществления освобождаются им легко, щедро и естественно. Его воображение не отягощено и не переполнено; оно не вступает в трагическое противоречие с законами искусства, потому что законы архитектуры живут в душе Палладио так же инстинктивно, как живет в душе Пушкина инстинктивный закон стиха. Как Пушкин, он есть сам своя норма, раскрывающаяся у обоих в каждом явлении их искусств и, быть может, в каждом их жизненном движении. Все, что от Палладио, – творчество, и в чистейшие творческие струи влекли бы нас дела и мысли его, прослеженные шаг за шагом и изо дня в день, подобно тому как влекут «дела и дни» русского поэта.
Восстановить дела и дни Палладио трудно, может быть, немыслимо. Юность его темна, учителя неведомы. Палладио воспитал себя сам во время своих поездок в Рим и путешествий в места, прославленные римскими руинами. Он изучал древность и постиг ее тайну так, как не могли того сделать его предшественники. Он не стремился похитить у Рима готовые эффекты форм, как хотели одни, или вырвать у него секрет славы, о чем мечтали другие. Организм древней архитектуры он изучал солидно, терпеливо, внимательно и бескорыстно. Он жил в убеждении, что это не чья-то чужая архитектура, рядом с которой возможна какая-то иная, но что это вообще единственная возможная и нужная архитектура.
Менее всего Палладио был подражателем. Мало художников, столь же далеких, как он, от какой бы то ни было ремесленности. Вместе с исследователем в нем уживался изобретатель, и именно «инвенция» была движущим началом его творчества. Осмысливающий прошлое, он весь был устремлен воображением в будущее, изучая старину, был полон неиссякаемой свежестью и новизною. Об отношении Палладио к Риму лучше всего сказал Quatremère de Quincy[340]: «Палладио как будто бы задался целью показать, что все разумное в формах и пропорциях древней архитектуры годится для всякой эпохи и для всякой страны с теми изменениями, которых не отвергли бы и сами строители древности. Он как бы поставил себе задачу сделать не то, что уже было сделано ими, но то, что они должны были бы сделать и сделали бы, конечно, если бы, возвратясь к жизни, стали работать для наших жилищ. Отсюда проистекает вполне свободное, легкое и находчивое применение им планов, линий и украшений античности во всех родах архитектуры, к которым обращался его талант». Античный мир был для Палладио живым организмом, и архитектура была не утратившей жизни оболочкой этого мира. Этот «теоретик архитектуры» воспринимал свое искусство природно, стихийно, почти чувственно. Вилла и дворец были для Палладио столь же органичны, как свободно растущее дерево и живой человек. Фриц Бургер, ныне погибший под Верденом, автор книги о виллах Палладио, справедливо говорит об антропоморфизме его архитектуры. Во второй из своих «Quattro libri dell’ architettura»[341], не приравнивает ли сам вичентинский зодчий деление частей здания к делению человеческого тела на части «прекрасные и привлекающие взоры» и на такие, которые «непривлекательны и лишены красоты, но тем не менее весьма полезны и даже необходимы для первых», так, что «расположила и устроила природа прекраснейшие части человеческого тела наиболее доступными взгляду и скрыла те, которые менее привлекательны, и подобно этому должны мы располагать и устраивать воздвигающееся здание…».
Не из Витрувия был вычитан архитектурный антропоморфизм Палладио, но был пережит им в опыте творчества. Органическое единство здания составляет сущность его искусства, являясь выводом из этого инстинктивного антропоморфизма. Архитектурная идея Палладио всегда развивается из плана, жилище мыслится им прежде всего как логическое группирование «плановых клеток». Симметрия и асимметричность перемежаются в его планах так же свободно и прекрасно, как в живом теле. Момент разрастания здания был для него излюбленным творческим моментом, и в руинах античности он больше всего любил те, где особенно выражено это разрастание, предпочитая геометричности храма органичную «клетчатость» терм. Пространственные решения Браманте кажутся слишком отвлеченными и математичными рядом с архитектурой Палладио. Интеллектуализм римско-флорентийского чинквеченто склонен был принимать план как замкнутую в себе геометрическую фигуру. Для архитекторов той эпохи фигура плана была заданием, в то время как она являлась свободным решением для Палладио. Поглощенные храмовой пространственной проблемой, они дали воспитаться в себе отдельному чувству фасада, стены. Человек чинквеченто не оказался тем гармонически полным существом, о котором мечтал Леон Баттиста Альберти. Заострение интеллектуальности вызвало в противовес ему из душевных глубин напряжение эмоции. Леонардо и Микеланджело уже болели и тем и другим. В интеллектуальном тезисе римско-флорентийской архитектуры и в ее эмоциональной антитезе равно родилось барокко.
Палладио спасло то обстоятельство, что он был венецианцем. На венецианской национальности его настаивает вполне справедливо в своей упомянутой книге Фриц Бургер. У этого великого сына Венеции, как и всех ее великих сыновей, была способность видеть вещи так, как не умели их видеть флорентийцы. Палладио столь же открыт для живописного видения мира, как его современник Тинторетто и как его друг и постоянный сотрудник Веронезе. Все трое они столь глубоко вдохнули от жизни, что лишь героические силы их позволили им не захлебнуться. Вещественность мира была впервые узнана в искусстве венецианских живописцев. Великий итальянский зодчий разделил с ними их пафос материальности. Природность и «телесность» его архитектуры заставляет ее жить устроенной, «венецианской» жизнью и позволяет ей охватить в огромном единстве многообразную свободу форм.
Надо было бы быть таким тонким палладианцем, как наш И. В. Жолтовский, чтобы раскрыть в каждом здании мастера глубоко обдуманную композицию масс и комбинацию уровней, игру интервалов и расстановку окон, с помощью которых достигается непогрешимое, безупречное, никогда и никем не достигнутое в такой мере зрительное впечатление единства. Для Палладио более всего важны поэтому те здания, где в неограниченности и вольности природы располагает он и объединяет в одно целое группу жилищ. Виллы Палладио
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Образы Италии - Павел Павлович Муратов», после закрытия браузера.