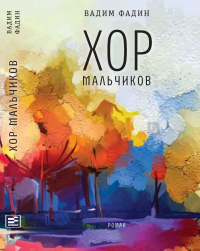Читать книгу "Призраки оперы - Анна Матвеева"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Голубев тяжко вздохнул.
– Думайте, – приказала Вера Андреевна. – Принимаются любые предложения, даже самые спорные.
Она поднялась с места, щедро улыбнулась маэстро и потом перевела взгляд на главного режиссера.
– У меня есть спорное предложение, – сказал Сергей Геннадьевич. – Даже очень спорное.
Дано одно – и спросят за одно.
В том, что касалось любви, книги были единодушны. Изъяснялись они по-разному, в зависимости от вкусов, способностей и темперамента авторов, но в главном совпадали: любовь заявляет о себе так же решительно, как депутат накануне перевыборов.
Татьяна многим нравилась, и любили ее, наверное, многие, но пробудить в ней самой хотя бы чуточку схожие чувства никто не смог, даже собственная дочь. Татьяна завидовала тем, кто умеет любить, да вот хотя бы родной матери: та в каждый роман бросалась, как с крепостной стены – в ров. А Татьяна довольствовалась разорванными, несмонтированными кусками, например, она любила голос нового баритона, который работал в театре всего лишь второй сезон. Хозяин голоса ей не нравился, но если закрыть глаза, то можно влюбиться в голос, как в отдельную личность… Жаль, что с постоянно закрытыми глазами долго не проживешь и что голос баритона существовал в комплекте с его телом и характером, как подарочные наборы к 23 Февраля, где импортный галстук продавался в нагрузку с кривой рубашкой отечественного пошива.
В другой раз Татьяна влюбилась в руки – руки трубача, который стал Олиным отцом. Она следила за каждым движением этих рук, и кроме них в трубаче ей, пожалуй, нравились еще только ямочки на щеках: они появлялись во время игры, а потом исчезали.
Голос, руки, ямочки – жалкий набор. Татьяна хотела бы полюбить человека целиком, не разбирая его по деталям, как в конструкторе, но, познакомившись с Согриным, вновь принялась за старое – запомнила широкие ладони, вздернутый бабий подбородок, голос, дающий заметную трещину… Она согласилась с ним встретиться только потому, что дома не было новой книги.
Любовь – обертка, в которую каждый может спрятать все, что пожелает. Страсть – это любовь, и Первое к Коринфянам – тоже любовь, и нужное здесь вычеркивать нельзя, а лишнее – не хочется. Впервые очутившись в мастерской Согрина, Татьяна не думала о любви, она всего лишь устала от своего дома и театра, от мамы и дочки, от скудных воспоминаний, похожих на расчлененные чувства, – руки, голос, ямочки… А Согрин даже не мечтал о том, что новая знакомая так быстро перейдет со сцены в зал, но настала ночь, потом – утро, а после и Согрин, и Татьяна ни в чем уже больше не сомневались. И не было ни стыдно, ни страшно – просто они не имели теперь права жить по одному. Жил человек, тяжело болел, а потом вдруг поправился. Жили двое, да, в общем, и не жили, если честно, а потом встретились.
Однажды Татьяна заметила, что Согрин больше не состоит из голоса, ладоней и подбородка: эти черты существуют теперь словно бы в другом измерении, где каждая хорошо и правильно дополняет другую, и, главное, все это не имеет теперь никакого значения.
Встречались они в театре. После спектаклей Согрин провожал Татьяну домой и долго потом еще маячил под окном – рядом с березой привычно темнело его пальто. В свободные от спектаклей дни Согрин приезжал домой к Татьяне. Оля уходила в школу, мама – на репетицию: надо было торопиться, но они всегда успевали сделать все, что хотели. Татьяна видела в зеркале отражение двух тел и каждый раз думала: вот это и есть моя лучшая партия.
Они встречались и дома у Согриных – в отсутствие Евгении Ивановны, о которой Татьяна думала с симпатией и жалостью. Она сумела полюбить даже Евгению Ивановну, потому что любила все, связанное с Согриным, а уж как раз Евгения Ивановна была с ним связана накрепко. Татьяна разглядывала ее фотографии, думая, что жена Согрина совсем не умеет одеваться: впрочем, они с Татьяной не были в равных положениях – той шила театральная портниха. Избитые туфли, пропотевшие платья: учиха учихой. Татьяна ранилась взглядом о вещи Евгении Ивановны, уносила с собой их удушливый жаркий запах. Голос у Евгении Ивановны был сверлящий, не голос – лязганье корнцанга. Татьяна не звонила домой Согрину – слишком долго забывался этот стоматологический голос. Металлическое, с кровяным привкусом «алло».
Согрин и Татьяна говорили о будущем так, словно все давным-давно решили, а теперь осталось только обсудить детали. Конечно, Согрин разведется с Евгенией Ивановной, и женится на Татьяне, и станет Оле отцом.
Мать Татьяны Согрин недолюбливал, а дочку боялся. В девочке так причудливо соединились родительские черты, что это полностью лишило ее собственной личности: по крайней мере, так казалось Согрину. Вот Оля улыбается смущенной материнской улыбкой, но высокие скулы и холодные глаза обращают ее в отцовский портрет – так эти два лица менялись до бесконечности, Согрин следил за живым калейдоскопом, пока девочка наконец не чувствовала на себе его взгляд и не отворачивалась. Оля терпеть не могла Согрина, ведь они с мамой закрывались в комнате на ключ и страшно молчали там долгими часами. Девочка уходила из дому, расчетливо хлопая дверью, но никто не ругался и даже не обращал внимания – бабка была в театре, мать молчала в комнате со своим художником… Оля шла к соседке – студентке арха. Там пустые зеленые бутылки стояли в коридоре ровными шеренгами и был полон дом народу – художники, фотографы, скульпторы… Мрачное лицо девочки избавлялось от родительских черт, сбрасывало их, как одежду, и никто не узнал бы теперь Татьяниной улыбки, и скулы отца, тщательно запомненные ревнивым Согриным, исчезали, и какой-то скульптор сказал про Олю:
– Я буду лепить эту голову.
Как будто голова существовала сама по себе, отдельно от нее.
Оля позировала скульптору, пока бабушка не возвращалась из театра, – забирала девочку из прокуренной квартиры, машинально кокетничала с гостями, благодарила пьяную хозяйку. Татьяна открывала наконец запертую дверь, оттуда вырывался горячий пряный воздух, будто настоянный на травах. Согрин не отрывал глаз от Татьяны, не видел ни дочери ее, ни мамы. Только краски прорывали иногда оборону. Алая, влажная, тягучая. Черная, жженая, бешеная. Розовая, невинная, бледная. Согрин уходил, но тут же вставал под окном у березы, и Оля думала, чем бы в него бросить.
Вскоре Татьяна стала смотреть на Согрина так, как он прежде смотрел на нее. Они поменялись ролями, как Онегин и Татьяна в последнем акте. Тогда-то, словно бы дождавшись этой перемены зрения и чувств, к Согрину в мастерскую и пришел ангел. О таком не скажешь – явился, он именно что буднично пришел. Ничего особенного, один из многих, рядовой состав.
– Никуда не годится… – Ангел озирался по сторонам, а Согрин не понимал, что никуда не годится? Он сам, его жизнь, Татьяна? Мебель?
Взбудораженные краски когтями впивались в виски, ангел терпеливо ронял слова:
– Могу показать, что будет. – Он вел себя, как продавец в дорогом магазине.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Призраки оперы - Анна Матвеева», после закрытия браузера.