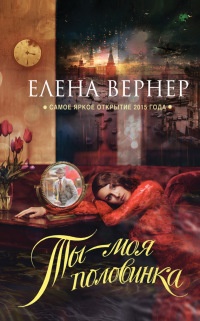Читать книгу "Шел старый еврей по Новому Арбату - Феликс Кандель"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Каллиопа и Терпсихора, Талия и Мельпомена, Клио, Эрато и Полигимния, Эвтерпа и Урания, не способные пребывать в праздной лености.
Взлетают по одной и направляются к очередному избраннику – увлекать "к священному свету скиталицу-душу".
Такая у них обязанность.
Такая обязанность у мастера.
"Талантливый делает, что может. Гений – что должен…"
Милая ты жизнь!
Жадная еще!
Ты запомни вжим
В правое плечо.
Щебеты во тьмах...
С птицами встаю!
Мой веселый вмах
В летопись твою.
Москва, Борисоглебский переулок, дом 6.
Рядом с моей школой, совсем рядом.
Бегал в тот дом к рыжему Вячику.
В галдёжное коммунальное обиталище, неподалеку от Собачьей площадки, где послевоенные подростки гоняли мяч в одни ворота.
Не знал, не догадывался, что вернусь туда через шестьдесят с лишком лет, увижу женщину в бронзе напротив дома в задумчивости и печали, на том месте, где высились некогда два тополя.
Не знал, не догадывался, что снова зайду в тот дом, в ту комнату, где она жила задолго до рыжего Вячика, а ее навещали музы, прозревая тяжкую судьбу избранницы. "Буду жалеть, умирая… дым папиросный – бессонницу – легкую стаю строк под рукой…"
Борисоглебский переулок, дом 6.
Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может – пьют вино,
Может – так сидят.
Или просто – рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое…
Помолись, дружок, за бессонный дом,
За окно с огнем!
Марина Цветаева
6.
Опасаюсь на старости…
…снов своих.
Во снах моих друзья мои и приятели выказывают без опаски тайные свои сомнения, словно исподтишка подглядываю за ними. Страхи выказывают с опасениями, незащищенность с неустроенностью, которые старательно скрывают от всех.
Кто как может, тот так и скрывает.
Во снах моих уходят из жизни друзья мои и приятели, живые еще, полнокровные, в неведении от предстоящего, и я с тоской ожидаю того часа, когда сны станут явью.
А они не догадываются, друзья мои, о скором расставании, им пока невдомек.
За что мне такое?
Одно утешает, если это можно назвать утешением. Не снюсь ли и я друзьям моим, выказывая тайные свои опасения, не ухожу ли из жизни в их полуночных видениях?
Лучше о том не спрашивать…
Это не воспоминания о человеке – зыбкие мои ощущения, которые беспокоят.
Он входил в комнату, как входит каждый из нас, а казалось – боком, по стеночке, будто не полагалось ему места в этой комнате.
Разговаривал, словно извинялся, что отнимает наше драгоценное время, будто не причиталось ему того, что другие получали от рождения.
Выслушивал терпеливо всякое разное, от занудной зауми до пустышечного набора слов: это талант – слушать, не перебивая, мне так не суметь.
Сказано неспроста в давние годы: "Троим жизнь не в жизнь: мягкосердечным, вспыльчивым и брезгливым".
Был он мягок и уступчив, с улыбкой легкой, приветливой, был, возможно, брезгливым, но не вспыльчивым, нет, не вспыльчивым, досады свои держал при себе.
Опоздавший родиться или явившийся слишком рано, с неодолимой печалью, учтивым, не теперешним, политесом, с негромким голосом, несуетливыми движениями рук, ненавязчивыми интонациями – таким уложился в памяти. Тихость голоса заставляла прислушиваться, всякий раз хотелось переспросить: что вы сказали? Всякий раз думалось: то ли мы слышим, что надеялся он выговорить?
А говорил он разумное, взвешенное, выстраданное; когда замолкал, вслушивался, казалось, в невысказанное, вглядывался в невидимое. Неприютный, беззащитный от рождения – до серьезной жизненной встряски, которую не одолеть.
Он лежал без сознания неделю за неделей, и добрая душа приходила в больницу, садилась возле кровати, рассказывала новости, которые могли заинтересовать.
– Он, – уверяла, – слышит.
Другая добрая душа, помолившись в палате, поменяла имя его на Хаим, от слова на иврите "жизнь".
– Чтобы обмануть, – сказала, – ангела смерти.
Николай Михайлович Карамзин жалился:
"Кто более нашего славил преимущество восемнадцатого века, свет философии, смягчение нравов?.. Восемнадцатый век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя ногами могилу свою, чтобы лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим".
Что бы сказал Николай Михайлович про век двадцатый?
Что ожидал бы от двадцать первого?..
До двадцать первого века тот человек не дожил. Тихий, с неспешным словом, стороной прошедший мимо, не выпячивая себя, не выделяя имя свое, – пусть останется безымянным и на этих страницах.
Безымянные – их не счесть.
Из письма столетней давности…
…философу Льву Шестову, по прочтении его книги:
"Вы сделали меня лучше, чем была раньше".
Кто бы написал такое теперь? Кому?..
Как с ними познакомились, уж и не вспомню.
Провели вместе вечер, были накормлены, обогреты, обласканы – наутро позвонили, поблагодарили за радушие.
– Ох уж эти москвичи… – вздохнула Руфь Александровна.
Прочитала мою рукопись, выделила фразу: "Дураки дурацкие, идиоты идиотские, балбесы балбесские…" Сказала, как потребовала:
– Это вы уберите. Читателя не обижают. Читатель – тоже человек.
Из ее дневника:
"Я не в моде. Признаки: очень мало телефонных звонков, мало или почти нет писем; не приглашают выступить или поехать за границу. Даже не позвали руководить семинаром. И мне грустно".
Писала прозу. Переводила с английского гигантский – в пятьсот страниц – том.
Каждый день – непременно.
Год переводила, не меньше. По окончании каторжной работы повела на кухню, показала стиральную машину, что выделялась новизной.
Гордо сказала:
– Гонорар получила за перевод.
Предложила с лихостью:
– Деньги нужны? Одолжу.
Эти деньги очень помогли, когда она слегла, словно обеспокоилась – наработала заранее на Пепу из Болгарии, которая за ней ухаживала.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Шел старый еврей по Новому Арбату - Феликс Кандель», после закрытия браузера.