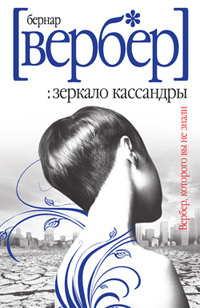Читать книгу "Исповедь старого дома - Лариса Райт"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ты хоть его любишь, Алечка? — только и спросила приехавшая на свадьбу взволнованная, но довольная мать, которой Аля все же сподобилась отправить телеграмму: «Познакомилась человеком. Приезжай свадьбу».
На свадьбу мать и приехала, но с каждой минутой праздника делалась все задумчивей и печальней.
Аля лишь отмахнулась: мол, люблю не могу, что за вопросы!
— Тебе жить, — коротко, но емко парировала мать.
Аля только плечами повела, взглянула искоса, будто хотела сказать: «Да что ты можешь знать о жизни? Больше половины просидела сиднем в одном колхозе, пахала как лошадь, а толку ноль. Из интересов — одни коровы, а царь и бог — председатель. Хотя о любви все же заговорила. Собственно, почему нет? У них же с отцом она одна на двоих: святая и неразделенная, к нашей советской родине. Интересы государства куда выше и значимей собственных. Вот и вся любовь. Спасибо, увольте. Такого счастья мне не надо».
— Аленька, а деток-то рожать? Уж больно не молодого ты выбрала себе в спутники.
— А не спеть ли нам, Юрий Николаевич, чего-нибудь этакого?
Аля быстро схватила гриф гитары, пока причитания матери не дошли до чужих ушей. Она чуть склонила голову: так что светлые (уже свои) локоны спустились на один глаз, тронула струны и завела нежным бархатистым голосом: «Я ехала домой…» Гитару она освоила на первых съемках, вокал поставили в институте, ну, а про давнюю любовь мужа к романсам догадаться ей было нетрудно по звучавшим из его проигрывателя Шульженко, Камбуровой и Вертинскому.
Аля взяла последнюю ноту. Гости одобрительно закивали, кто-то даже раздобрился на несколько хлопков, мать умильно промокнула платочком глаза. Аля мысленно скривилась — для кого был разыгран весь этот спектакль, купился в очередной раз, встал с наполненной рюмкой и искренне произнес:
— Моя жена — прекрасная женщина.
Послышался поддерживающий мужской шепоток и делано равнодушный женский. Аля заметила, как снова заулыбалась мать, принимая похвалы в адрес дочери на свой счет. «Смейтесь, кивайте, шепчите, завидуйте, улыбайтесь, — думала Аля. — Вы можете сколько угодно соглашаться с ним или нет. Да-да, вполне можете не соглашаться, даже спорить. Что верно, то верно: не такая уж я и прекрасная женщина. Я прекрасная актриса, и я предоставлю вам возможность это понять».
Так думала она, склонив светловолосую голову и нежно обнимая инструмент. И никто не смог бы угадать в этой истинной ласке и нежности, в этой скромности и невинности того напора, той страсти, того огня, что будет пылать через много лет на портрете в старом доме перед кроватью немощной старухи.
Женщины в церковь заходили чаще. Михаил по неопытности сначала считал их более набожными, чем мужчин, более скованными предрассудками, убеждениями и традициями, но вскоре получил отличную возможность убедиться в ошибочности такого взгляда. Отнюдь не все женщины направлялись к иконам, не все склоняли колени и ставили свечи, большая часть, негромко переговариваясь, терпеливо ждала очереди на исповедь.
Исповедовались охотно и много. И не потому, что грешили часто, а потому, что словом перемолвиться да совет получить от умного человека каждой хотелось. В интеллигентности и прозорливости служителей церкви никто не сомневался, а потому и Михаила воспринимали если не в качестве истины в последней инстанции, то, во всяком случае, в качестве доброго и мудрого наставника.
А Михаил… Михаил так устал смиренно улыбаться, покачивать головой и выдумывать утешения на слезы и жалобы! Ему претило играть, ему наскучило наставлять. Если бы он получил знак о пользе своего занятия, то, возможно, смиреннее относился бы к своей участи, но прихожане выливали на него свои проблемы, ждали с надеждой, когда же он выловит из этого котла людских поступков, смердящего хитростью, похотью и трусостью, что-нибудь стоящее и наградит спасительным «Покайся», или «Прочти трижды «Отче наш», или еще каким-нибудь мало значащим и совершенно, с точки зрения самого Михаила, не успокаивающим совесть лекарством… Он выслушивал, и награждал, и отпускал с миром, но сам мира не чувствовал. Не ощущал своей пользы, не чувствовал необходимости. Да, приходили, да, делились, да, внимали. И только.
Если бы был с ним рядом отец Федор, то объяснил бы, что любому человеку не так важно, чтобы с ним говорили, гораздо важнее, чтобы его слушали и слышали. Но Михаил остался один, и некому было вести с ним философских бесед о природе человеческой души. А души между тем в большинстве своем были настолько бездуховны, что если и могло их спасти нечто, то уж никак не троекратное прочтение молитвы.
— Я, батюшка, не виноватая, вот те крест. Щас нормальных-то днем с огнем не сыщешь, а чтоб у него еще и руки не из одного места росли, такие попросту перевелись. Ну ежели ходит ко мне мужик, даром что женатый, что же, мне его гнать, что ли? Он мне и пол залатает, и потолок побелит, и детям гостинцы принесет. Как же его гнать-то, коли от него одна польза?
А что ответить? У него самого познаний на этот счет не больно много. Разве что:
— Блуд — это смертный грех.
— А меня пугать не надо. Я пуганая. Я пришла, рассказала. Может, и покаялась даже. А раз покаялась, грех отпусти — и дело с концом.
«Лихо получается. Ворочу, чего хочу, а отвечать за это не собираюсь». Но так Михаил только думает. Произносит старое, знакомое, ожидаемое:
— Иди с миром.
Или другая исповедь:
— Я если о чем и жалею, отец, так о том только, что хворостина оказалась никуда не годной и сломалась через пять ударов. Так бы ему, обормоту, несдобровать. Ишь удумал, учительнице на стул жабу положить! Ни стыда ни совести!
— Зато ребенка своего дубасить — это и не стыдно вовсе. — Мысли оказываются мыслями вслух.
— А чего ж тут стыдного? Скажете тоже! Будто вас мамка никогда ремешком не охаживала?
Женщина, не стесняясь, говорит то, что думает, и тут же зажимает руками свой болтливый рот. Вот ведь бес попутал священнику такое ляпнуть! Но священник-то ненастоящий, поэтому конфуза не замечает, удивляется только:
— Меня?
Михаил пытается представить свою мать с ремнем в руках. Тщетно. Не получается. Разве что тоненький ремешок, и не в руках, а на поясе собственноручно связанного трикотажного платья. Мама за всю жизнь пальцем его не тронула, даже голос не повысила ни разу. Окрики, нотации и поучения были отцовской повинностью. У мамы же для «любимого Мишеньки» имелись только ласка в неограниченных дозах и в самых обильных порциях.
— Пару схватил.
— По какому?
— По географии. Не смог перечислить все пятьдесят американских штатов.
— Позор! — резюмировал отец. — И это сын академика! И это наше будущее!
— Неплохо было бы знать хотя бы сорок девять, — мягко говорила мама.
— Позор! — заключал отец и громко хлопал дверью. И почти одновременно с хлопком двери мать прижимала его к себе и весело шептала в ухо:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Исповедь старого дома - Лариса Райт», после закрытия браузера.