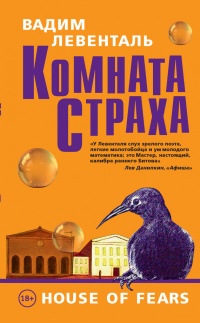Читать книгу "Маша Регина - Вадим Левенталь"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
За стандартными формулами, с помощью которых в получасовой рассказ архивируется вся жизнь (а потом ты в школу пошла, деньги нужны стали), Маша слышит стук тысяч ножей по тысячам досок, на которых режут в мелкие кубики тонны вареной картошки всякий раз, когда надо кого-то похоронить, родить или выдать замуж. Этот мерный стук завораживает Машу — вглядываясь в свою мать, которая уже предлагает ей доесть курицу, потому что она больше не хочет (я погрею, а?), она обнаруживает зону тотального одиночества, где ужас человека перед жизнью не может быть разделен ни с кем, где при всем желании невозможно никому помочь, где теряют свою связующую силу связи родства, а слова «мать» и «отец» становятся только обозначением происхождения. Ее мать, которая сейчас наливает чай и бормочет что это я тут так, прости, — Маша понимает (хоть и отвечает да что ты, все в порядке) — закончит свою жизнь с теми же двумя-тремя картинками в голове и с тем же недоумением «как это все так получилось», и в целом мире нет ни одного человека, который мог бы простить бедную девочку. Так что, когда на следующий день отец вернется домой, прислонится плечом к вешалке, вешалка упадет и вместе с ней упадет отец, мать будет кричать на него, Маша будет стоять в коридоре и пытаться расслабить хотя бы ноги, чтобы уйти в комнату, отец будет ползти на четвереньках вперед (извиняюсь, я починю), а потом уткнется лбом в пол под Машиными ногами (Машенька, прости меня! ты меня прощаешь?) — она не сможет ему ничего сказать. И когда мать примется укладывать отца на кровать и из-за двери будут еще доноситься его вялые пережевывания Машенька, ну скажи! — она вдруг почувствует страшную нечеловеческую ненависть — и к отцу, и к тому механизму, открытие которого станет отправной точкой для начала работы над «Минус один».
Маша сорвется и уедет в Питер на следующий день, дав отцу повод еще раз легально напиться, а матери — возможность сжать ее ладони и срывающимся голосом попросить приезжать почаще (ты ведь вернулась теперь? из Германии-то?). Но и без маминых намеков понятно: в том, что ее жизнь свернулась в ленту Мёбиуса — муравей, шагающий по бесконечному полю возможностей, хочешь не хочешь, оказывается там же, откуда начинал свой путь (математики называют четырехмерный вариант этой модели бутылкой Клейна — бутылкой, да, по-русски эта метафора особенно наглядна), — в этом виновата Маша. И событие этой вины не там, где Маша, перетерпев мамины слезы, села на поезд до Ленинграда, а там, где безымянному, кричащему от страха лиловому комочку присвоили порядковый номер, чтобы не перепутать, если что, где чей младенец. Вину эту невозможно искупить возвращением хотя бы потому, что перемещаться в любую сторону можно только в трех измерениях (да, в этом смысле скорость памяти близка к скорости света). И это не тот счет, который можно оплатить наличными, хотя миллионы детей делают именно так, и Маша, конечно, тоже будет посылать маме деньги. То, что эта вина неизбывна, — структурная особенность мира, в котором довелось жить человеку. И если бы вдруг крепления, на которых держится мир, чувство вины и обида, которая есть та же гайка, только с обратной резьбой, если бы они вдруг ослабли, тогда холодная мощная волна хаоса дернула бы вверх все человеческое общежитие подобно тому, как енисейская вода за пять минут превратила в металлолом многотонные турбины Саяно-Шушенской ГЭС.
В тот момент, когда Машины ноги закоченели от предчувствия этого холода (она так и не смогла сдвинуться с места — мать, уложив отца, отвела ее на кухню), она вдруг поняла, зачем возвращалась домой. Понятно, не для того, чтобы отдать дочерний долг (отдать долг, если речь идет о родителях, покойниках, бывших женах или друзьях, всегда значит только подтвердить его), и, уж конечно, не для того, чтобы убедиться в том, что жизнь ее родителей вошла в штопор. То беспокойство, которое охватило ее еще в Кёльне, суть которого она никак не могла сформулировать, было вызвано тем, что, вслушиваясь в шипение шампанского, которое разливали по бокалам официанты в холле Людвиг-музея, в Ромины крики, когда он старался перекричать гомон толпы в пивной, в его все более мерное дыхание, когда она утыкалась носом в его горячую шею, в бодрые вопросы девочек с микрофонами (скажите, почему в вашем фильме играют подростки? — главное было разжижить слюнный кисель во рту), — она не слышала того, что привыкла слышать, — гула смысла событий.
Проще всего было бы следовать логике — полететь за Ромой, который звал ее с собой, или подписать какой-нибудь контракт, чтобы не остаться без работы, если уж не было никакого своего сценария, на который можно было бы попробовать раздобыть денег, — но она полетела сначала к А. А., а потом домой, чтобы остановить это скольжение, услышать ритмичное постукивание внутри груди, включиться всем телом в работу сознания, — словом, чтобы написать свой собственный сценарий для нового фильма, такой сценарий, от которого ноги заходят ходуном, торопясь на площадку, и ради которого захочется разодрать кому-нибудь глотку, чтобы только дали это снять.
Такой сценарий можно написать лишь кровью, и прилив этой крови к рукам Маша ощутила, стоя в коридоре над пьяным отцом, — жар страшной, нечеловеческой ненависти, — когда она ясно увидела, что движется по той же свернутой в восьмерочку ленте, в ту же сторону и так же неумолимо. Что она всегда будет жить виной за спившегося отца и несчастную мать. Что она никогда не сможет забыть Роме его сучки, и в то же время из окаменевших слоев памяти на нее всегда будет с укоризной глядеть А. А. И что чем дальше она будет жить, тем больше друг за друга будет цепляться шестеренок: умрут мать с отцом, сопьется А. А., у нее родится дочь, пьяный Рома пошлет ее на хуй — и новые, которых она не может предвидеть, только предчувствовать, — и все они с каждым поворотом все сильнее будут толкать ее к концу концов, в котором уже теперь различима одинокая запутавшаяся старуха — она ставит на полочку фотографию с черной лентой наискосок, ее губы шевелятся, повторяя фразы, сказанные в начале времен. Думая об этом, Маша пробует на ощупь свое чувство вины — можно ли от него отказаться, — и понимает, что нет, нельзя, это своего рода нравственная гемофилия, несвертываемость внутренних соков души. Но при том, что механизм первородного греха обеспечивает существование человечества в целом, в конкретном случае своей собственной судьбы всегда есть соблазн попытаться раскрутить гайки и на высвободившейся энергии соскочить с конвейера по производству трупов.
Оказавшись в своей комнате (спи, Маша, — но она, конечно, не будет спать), Маша садится за стол, разглаживает по исцарапанной пыльной поверхности лист бумаги и осторожно, как будто она боялась бы вдруг проткнуть бумагу грифелем, начинает рисовать. За окном темно, как в колодце, на стекло мелким пунктиром ложится морось, капли отсверкивают желтым, полукруглым от козырька лампы светом, тьма шевелится размытым пятном куста, и где-то еле слышно надрывается мотор. В комнате холодно и пусто. Вещи, наполнявшие жизнь девочки Маши, собраны в картонные коробки и покоятся на шкафу. Сокровища, из которых выветрилась сокровенность, — значки, фигурки нэцкэ, фломастеры, блокнотики, кусочки коры и глины, куклы и звери — ничто из этого больше не могло бы помочь Маше. К потемневшим обоям прикноплен календарь с махровым котенком, ящики стола разорены, и книги на полках стоят заподлицо. На лампе просвечивает наклейка: мальчик признается девочке в любви, сердечки, вылетающие из его груди, выцвели дожелта, странная парочка — мертвые сторожа срытого кладбища. В комнате пахнет сырым подполом. Но пламя, которое накаляет Машины руки, сушит комнатный полумрак. Квадратные тени сереют на потолке, в треугольниках их перекрестий видится какое-то напряжение — Маше за наклоненное плечо заглядывают голодные спросонья призраки плюшевых медведей, в их пластмассовых глазах под слоем пыли играет электрический зигзаг-огонек. Маша рисует вокзал.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Маша Регина - Вадим Левенталь», после закрытия браузера.