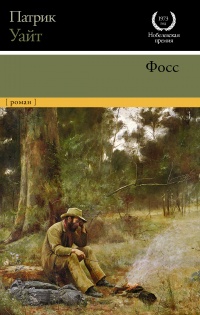Читать книгу "Инстинкт Инес - Карлос Фуэнтес"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тогда он сжимал в кулаке стеклянную печать, будто хотел задушить ее, как проворного наглого мышонка, заставить умолкнуть голос, исходящий от ее прозрачного свечения, и в то же время он боялся, что ее уязвимая хрупкость не выдержит прикосновения человека еще сильного, еще нервного и энергичного, привыкшего дирижировать, повелевать без дирижерской палочки, отдавать приказы лишь отточенными движениями чистой и длинной кисти, столь красноречивой и для всего оркестра, и для соло на скрипке, фортепьяно или виолончели – значительно более сильной, чем хрупкий baton, который он всегда презирал, потому что тот, по его словам, не усиливает, а извращает поток нервной энергии, берущий начало от моих черных волнистых волос, от моего безмятежного лба, лучащегося светом Моцарта, Баха, Берлиоза, как будто бы они сами писали на моем челе исполняемую партитуру; мои густые брови и вертикальная морщинка между ними, говорящая о чувствительности и печали, – оркестр воспринимал ее как свидетельство моей уязвимости, моей вины и моей расплаты за то, что я не Моцарт, не Бах и не Берлиоз, а всего лишь посредник, как бы провод: я могучий проводник, да, но одновременно очень уязвимый, боящийся первым допустить промах, предать произведение, я тот, у кого нет права на ошибку; и, несмотря на внешние обстоятельства, будь то свист публики, или молчаливое осуждение оркестра, или неодобрительные отзывы газет, или истерика сопрано, или презрительный жест солиста, или тщеславие надменного тенора, или коварство баса, – все же самым жестоким судьей для него был он сам, Габриэль Атлан-Феррара.
Стоя перед зеркалом, он говорил себе: я не справился со своей задачей, предал свое искусство, разочаровал всех, кто от меня зависит, публику, оркестр и прежде всего композитора…
Каждое утро во время бритья он смотрел на свое отражение в зеркале и уже не узнавал в нем свои прежние черты.
Даже вертикальная морщинка, которая у всех с годами становится глубже, исчезла, скрывшись под бровями, буйно разросшимися, как у Мефистофеля из любительской постановки; он считал суетным приводить брови в порядок и лишь иногда приглаживал их нетерпеливым жестом, будто отгоняя муху, но не мог укротить их бунтарскую седину, такую светлую, что, если бы брови не были настолько густыми, их невозможно было бы различить. В прежние времена эти брови внушали священный трепет: они повелевали, говорили, что ясное сияние юношеского лба и непокорные черные кудри не должны никого ввести в заблуждение: вертикальная морщинка возвещала о грядущем возмездии, придавала законченность суровой маске посредника, лицо, на котором непостижимым образом чужими казались глаза, как черные алмазы, как пылающая драгоценность и неугасимое пламя; изящный патрицианский нос, вылитый Цезарь, но с широкими, как у хищного зверя, ноздрями, чуткий, брутальный, но чувствительный к малейшему запаху, и потом вырисовывался удивительный рот, мужественный, но сладострастный. Губы палача и любовника, обещающего чувственность только в обмен на наказание и наслаждение только ценой боли.
Неужели это был он? Портрет на рисовой бумаге, мятой, потому что ее слишком часто разглаживали, слишком часто перекладывали ею вещи во время долгих путешествий знаменитых оркестрантов, вынужденных в любую погоду и в любых обстоятельствах надевать для работы неудобный фрак вместо вызывающего у них зависть комбинезона механиков – а ведь они тоже имеют дело с точными инструментами.
Когда-то он был таким. Сегодня зеркало это отрицало. Но он был счастливым обладателем другого зеркала, не старого крашеного зеркала в ванной, а кристально чистого зеркала печати, покоящейся на треножнике у открытого окна, откуда открывался вид на всю несравненную панораму Зальцбурга, этого германского Рима, расположенного в ложбине среди массивных гор и разделенного рекой, которая, подобно пилигриму, спускалась с верховьев Альп и снабжала водой город; когда-то, быть может, город покорялся необузданным силам природы, но с XVII–XVIII веков начал развиваться вопреки ним, отражая окружающий мир, но в то же время противопоставляя себя ему. Строил Зальцбург архитектор Фишер фон Эрлах; по его замыслу башни-двойники, вогнутые фасады, воздушность и поразительная, по-военному четкая простота планировки позволяли соединить безумное барокко с альпийской монументальностью, и в результате возникла иная, осязаемая, природа города, где тебя на каждом шагу окружает застывшая музыка.
Старик смотрел из окна на вершины, покрытые лесами, на горные монастыри, потом опускал взгляд, ища утешения, но даже ценой больших усилий он не мог отрешиться от незримых величественных обрывов и будто высеченных резцом крепостных стен, казавшихся неуместными на склонах горы Монхберг. С невероятной скоростью скользило над этой панорамой небо, словно отказавшись от попыток состязаться и с природой, и с архитектурой.
У него были иные границы. Между ним и городом, между ним и миром стоял этот предмет из прошлого, не подверженный течению времени. Шар отражал время и, вместе с тем, оказывал ему сопротивление. Не таится ли опасность в хрустальной печати, которая вобрала в себя все воспоминания, но была столь же хрупкой, как и они? Глядя на нее, покоящуюся на треножнике у окна, между ним и городом, старик спрашивал себя, не приведет ли потеря светящегося талисмана к утрате воспоминаний. Не разлетится ли на осколки память, если хрустальная печать исчезнет из его жизни, будь то по его собственной небрежности, или по недосмотру одной почитательницы его таланта, которая приходила помогать ему два раза в неделю, или из-за гнева доброй Ульрике, его экономки, которую соседи ласково прозвали Dicke, Толстуха.
– Не ругайте меня, господин, если с вашей стекляшкой что-нибудь случится. Если она вам так нужна, храните ее лучше в надежном месте.
Почему он держал печать на виду, можно сказать, почти под открытым небом?
Старик мог бы по-разному ответить на этот закономерный вопрос. Он перебирал варианты – власть, решение, судьба, знак отличия – и останавливался на одном: память. Если бы печать хранилась в шкафу, ему пришлось бы о ней помнить, а ведь печать – это овеществленная память своего хозяина. Находясь на виду, печать вызывала воспоминания, которые были необходимы маэстро, чтобы продолжать жить. Старик с трудом сел за пианино и начал медленно, словно нерадивый ученик, пробирающийся сквозь трудный текст, наигрывать кантату Баха. Он решил, что хрустальная печать вызовет к жизни его прошлое и воскресит все то, чем он когда-то был, и все то, что он совершил. Она переживет его самого. Даже хрупкость печати наводила на мысль о какой-то общности между нею и его собственной жизнью, появлялось желание и жизнь свою считать чем-то неодушевленным, предметом. В невероятной прозрачности печати все прошлое маэстро, все то, чем он был, есть и недолгое время еще будет, переживет смерть… Останется и после его смерти. Надолго ли? Этого он не знал. Да и какая разница? Мертвый не знает, что он мертв. Живые не знают, что такое смерть.
Нам нечего будет сказать о своей собственной смерти.
Это было как пари, а старик всегда был человеком азартным. Вся его жизнь после нищеты Марселя, когда он, отвергая богатство без славы и силу без величия, целиком посвятил себя неодолимому и властному зову музыки, стала непоколебимой опорой для веры в себя. Но все, чем он был, зависело от чего-то, на что он уже влиять не мог: от жизни и смерти. Пари как раз и состояло в том, чтобы предмет, столь тесно связанный с его жизнью, не поддался смерти, и чтобы таинственным, пусть сверхъестественным образом печать продолжала бы хранить тонкость осязания, остроту обоняния, изысканный вкус, фантастический слух и горящий взор своего хозяина.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Инстинкт Инес - Карлос Фуэнтес», после закрытия браузера.