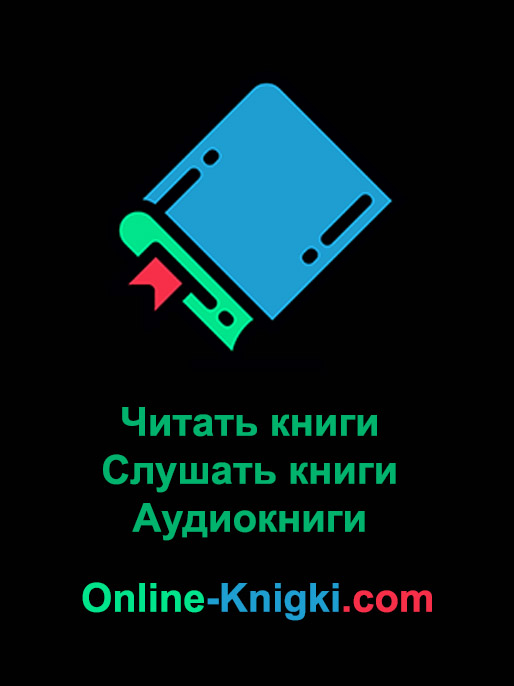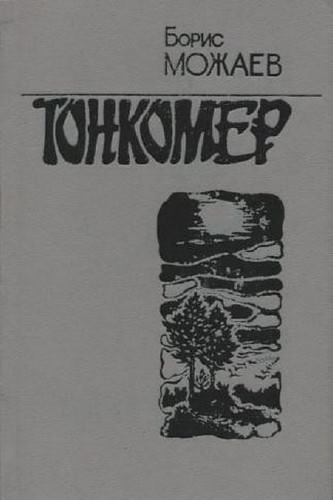Читать книгу "Проданная деревня - Борис Андреевич Можаев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Переплетение в судьбе Можаева двух стихий – моря и земли – не вымышлено, не книжно и тем более не декоративно. О море он не писал, но земля, особенно дальневосточная и рязанская, подчинила себе его талант. Он ездил в разные края: и на Алтай, и в Крым, и в Нижний Новгород, и на Амур, а когда открылись границы, то и Англия, и Нидерланды, и Финляндия, и Уругвай попали в зону его земледельческих интересов. Он вбирал в себя знания о земле и землеустройстве, куда бы ни заносила его судьба. И чем больше он ездил, тем более широким и укорененным в личности становился его кругозор. Герои Можаева формировали его личность неотвратимо, словно желая оставить свой слепок. Можаев был скор на защиту, но и он знал, кому отдавать честь и поклон. Невероятная его образованность, в области истории и практики российского земледелия особенно, в сочетании с энциклопедическими познаниями в области крестьянского дела и быта – знаниями не только благоприобретенными, а нажитыми и вколоченными в плоть и дух его по крови и по младенческому еще опыту, давали ему такую свободу, естественность и вольность ориентировки, что его защита земли и земледельца обретала фундамент и право на атаку.
«Разговоры с Борей были мне всегда интересны и полезны многими сведениями, – пишет Солженицын, – хоть новейшими сегодня, хоть давнеисконно крестьянскими, хоть различением каждой травки и каждой птички, – а главное, так легко он все это рассказывал, оставаясь и полностью приимчив к собеседнику».
Эта свобода знания, даваемая его основательностью, открывала Можаеву горизонты, но не приносила победы.
«Носился он то луга загубляемые смотреть, то в рязанские и московские редакции статьи печатать, да их запрещали как горькую контрреволюцию – ну тогда хоть выступать где-то, живых людей убеждать, не все же с ума сошли?! (а выглядело внешне: как будто – и все сразу), – пишет Солженицын. – Сколько он на это сил потратил, сколько отношений с начальством испортил! Он брал на себя тяжести, как бы не соразмерив их веса. И – нес, так и не соразмерив. <…>
<…> Сколько ж, за жизнь, перегорячился он, сколько бился обо всем правильном, нужном, общем, – кто его послушал? что он спас? Такие наши власти были, такие и остались!» – горестно заканчивает Солженицын свои воспоминания в 1997 году в первую годовщину смерти друга[6].
Три гибели (из «Лесной дороги» и «Живого»), как «Три смерти» у Льва Толстого, дают представление о силе можаевского искусства, которое оставалось победоносным – независимо от того, какая власть на дворе и принесло успех или нет очередное можаевское стояние.
Гибель рыбы, гибель дерева и гибель человека, по счастью, не свершившаяся:
Мы остановились на обрывистом берегу. Неширокая порожистая протока была завалена кругляком, коряжником и кетой. Оседавшие на галечных перекатах заломы из выворотней, бурелома да почерневших коряжин обросли за лето свежими бревнами и сплошь перегораживали течение. Перед заломами вода кишела кетой; сильная рыба тараном шла на бревна, билась хвостами о галечные отмели, выпрыгивала из воды, сверкая радужным полукружьем, старалась перемахнуть через высоченные заломы, плюхалась снова в воду и опять шла на приступ.
Выбившись из сил, в кровоподтеках и ссадинах, она отходила к берегу и здесь, раздвигая трупы своих собратьев, торопливо разбивала хвостом один из продолговатых бугорков, выбрасывала оттуда уже политую молоками икру своих предшественников, выметывала сама икру в эту ямку и, не успев как следует зарыть ее, тут же умирала. Вода красная от икры; отмель усеяна сдохшей рыбой.
Закатное солнце тяжело плавало над лесными вершинами, и в этом медно-красном свете рыбины казались окровавленными.
Мы долго молчали и смотрели на это мрачное рыбье побоище.
Затихли отдаленные глухие раскаты – видать, вальщики закончили работу.
Ветра не было – ничто не шелохнется. И только редко и жирно каркали вороны; они лениво перелетывали над протокой, садились на прибрежные кедры и сердито кричали на нас.
– Хоть бы вы растащили эти заломы, – сказал я Пассару.
– Нам некогда… Людей нет. И очень бесполезно.
(«Лесная дорога», 1964)
Перед ним метрах в ста качнулся и стал валиться высокий кедр; сначала он вроде бы застыл в наклонном положении, и казалось, что он еще выпрямится и его тупая, словно подстриженная небесным парикмахером, вершина снова появится в оголенном проеме. Но, помедлив какое-то мгновение, тяжелыми косматыми лапами погрозил он, опрокидываясь, небу и быстро пошел к земле, со свистом рассекая воздух, по-медвежьи с треском подминая долговязый орешник, и с пушечным грохотом ударился наконец оземь. Гулким стоном отозвалась земля, и долго, как смертный прах, парило в воздухе облако снежной пыли. И в наступившей тишине было жутко смотреть на этого поверженного недвижного, точно труп, лесного великана, на мотающиеся обломанные, как косталыжки, ветви орешника да трескуна, на пустой, как прорубь в пропасть, небесный проем, который еще мгновение назад закрывала кудлатая голова кедра.
(«Лесная дорога»)
Фомич, сцепив от боли зубы, выполз на берег и так, на четвереньках, с пучками прутьев за спиной, двинулся по ветру. Вскоре он потерял свои сшитые из старой шинели рукавицы и загребал снег побелевшими голыми пальцами. Холода он теперь не чувствовал вовсе, и боли в ноге тоже не было. Он плохо соображал, куда ползет, в каком направлении. Но зато хорошо знал, что на спину теперь переворачиваться нельзя, боялся, что силы не хватит, чтобы снова встать на четвереньки. И на бок боялся лечь, чтобы не уснуть. Теперь он и отдыхал все в том же положении – на четвереньках, уткнувшись носом в снег. Крутом была ночь, бушевал снег, выл ветер, а он все полз и полз, каким-то необъяснимым волчьим чутьем выбирая именно то единственно верное направление, где в снежной коловерти потонули Прудки.
Нашли его ночью возле фермы. Головой он уткнулся в ворота, ползти дальше некуда. Думали, замерз…
(«Живой», 1964–1965)
Можаевская патетика скорбна, но лишена надрыва. Его письмо, при всей многоцветности и стремительных перепадах от восторга к желчи, от сатиры к печали, от воздуха к безысходности и духоте, находится под постоянным напряжением его насмешки, гнева и пытливейшего ума. Его радостное приятие природного порядка вещей, его любовь к здоровью и здравости подернуты тревогой и ожиданием срыва. Мятежа он не жаждет, но он дитя мятежного времени.
Возможно, однако, что эта чуткость на срыв, рожденная тем мятежным временем, и породила в можаевских вещах изобильные описания цветущего
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Проданная деревня - Борис Андреевич Можаев», после закрытия браузера.