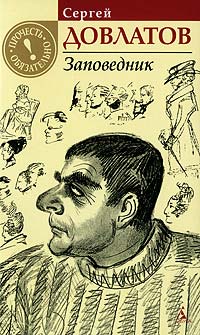Читать книгу "Компромисс. Заповедник - Сергей Донатович Довлатов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды мы с ним зашли в ленинградский Дом книги, на двух первых этажах которого располагался магазин, а выше — издательства, куда нам, собственно, и нужно было. Между вторым и верхними этажами на лестнице располагался за конторкой вахтер. Увидев несолидных визитеров, поднимающихся из магазина, он довольно грубо нас пытался остановить: «Вы куда? Выше магазина нет!» Мы не обратили на него внимания и поднялись на следующий этаж. Когда же шли обратно, Довлатов наклонился к вахтеру и вежливо спросил: «Что ж вы не сказали нам, что выше магазина нет?» Того, по-моему, от возмущения хватил удар...
Подобную резкую чувствительность ни довлатовскими политическими взглядами, ни его оставлявшим желать лучшего моральным обликом не объяснишь. Природой в нем было заложено другое, будоражащее и его самого, и окружающих свойство — артистическая способность приводить людей в волнение в минуту, когда волноваться, кажется, никакого повода нет, когда «всем все ясно», когда все табели о рангах утверждены.
Взгляд художника царапает жизнь, а не скользит по ее идеологизированной поверхности. Довлатов был уверен, например, что строчка из «Конца прекрасной эпохи» Бродского — «Даже стулья плетеные держатся здесь на болтах и на гайках» — характеризует время ярче и убийственней, чем обнародование всей подноготной Берии.
Социальная критика в искусстве грешит тем, что едва проявленный негатив выдает за готовый отпечаток действительности и творит над ней неправедный суд. Там, где общественное мнение подозревает в человеческом поведении умысел и злую волю, Довлатов-прозаик обнаруживает живительный, раскрепощающий душу импульс.
Неудивительно, что он питал заведомую слабость к изгоям, к плебсу, частенько предпочитая их общество обществу приличных — без всяких кавычек — людей. Нелицемерная, ничем не защищенная открытость дурных волеизъявлений представлялась ему гарантией честности, благопристойное существование — опорой лицемерия. Симпатичнейшие его персонажи — из этого низкого круга. Заведомый рецидивист Гурин из «Зоны» в этом смысле — образец. Нельзя не вспомнить и «неудержимого русского деграданта» Буша из «Компромисса», и удалого Михал Иваныча из «Заповедника». Почти всех героев книги «Чемодан», героиню «Иностранки»... Все они стоят любого генерала.
Аутсайдеры Довлатова — лишние в нашем цивилизованном мире существа. Лишние — буквально. Они нелепы с точки зрения оприходованных здравым смыслом критериев и мнений. И все-таки они — люди. Ничем не уступающие в этом звании своим интеллектуальным тургеневским предтечам.
Трудно установить, отреклись довлатовские герои от социальной жизни или выброшены из нее. Процесс этот взаимообусловлен. Тонкость сюжетов прозаика на это и заострена. Довлатов ненавязчиво фиксирует едва различимую границу между отречением и предательством. Отречением от лжи. И предательством истины.
Большинство выявленных и невыявленных конфликтов довлатовских историй — в этом пограничном регионе. Они проецируются и на литературную судьбу прозаика. Как и на судьбу других изгнанных или выжитых из России талантливых художников застойных лет. Чаще всего не по собственному разумению, а под идеологическим нажимом они перебирались на Запад. Анонимные «вышестоящие мнения» имели тенденцию неуклонно закручиваться в конкретные «персональные дела». Аморальная сущность предпринятого натиска ясна. Ясен и смысл всех этих акций. Творческую интеллигенцию, отрекавшуюся от неправедных взглядов и действий, цинично зачисляли в предатели.
Чувствительность Довлатова к уродствам и нелепостям жизни едва ли не гипертрофирована. Однако беспощадная зоркость писателя никогда не уводит его в сторону циничных умозаключений. Это определяющая всю довлатовскую эстетику нравственная черта.
Я бы назвал Довлатова сердечным обличителем.
И не его вина, если способность высказывать горькую правду с насмешливой улыбкой так раздражает людей. Блюстителей порядка улыбка раздражает яростнее, чем сама истина в любом ее неприглядном виде.
4
Еще в бытность свою в Ленинграде Сергей признался как-то, что для него вполне обыденная реплика из Марка Твена — «Я остановился поболтать с Гекльберри Финном» — полна неизъяснимого очарования. Он даже собирался сделать эту фразу названием какой-нибудь из своих книг. Да и сам был склонен остановиться поболтать едва ли не с каждым, кто к этому готов. Беззаботная речь случайного собеседника влекла его сильнее, чем созерцание сокровищ Эрмитажа или Метрополитен-музея. Безыскусно умозаключая, скажем: зрение прозаика было всецело сконцентрировано на «натуре».
Когда-то в квартире 34 дома 23 по улице Рубинштейна над письменным столом молодого литератора среди портретов любезных его сердцу Осипа Мандельштама, Александра Солженицына и Иосифа Бродского висел ладный пейзажик с коровами на опушке леса — акварель, написанная самим Довлатовым в редкую для него минуту отдохновения. Других его, подобных этой акварели, картин я не знаю. Рисовал он и тогда, и позже преимущественно мимолетные шаржи и автошаржи, свидетельствующие не только о природном таланте, но и об определенной живописной выучке автора. Пять лет посещал художественную школу и собирался продолжить образование у Н. П. Акимова, сдав экзамены к нему на оформительский факультет Театрального института. Но... Но пересилила тяга к русской речи.
Довлатовская акварель с коровами на первый взгляд максимально далека от того, что он изображал в своей прозе, урбанистической, с преобладанием сцен из жизни современного ему расхристанного, далекого от какой бы то ни было натурфилософии общества. Обложка его первой, так и не вышедшей книги «Пять углов», сконструированная им самим в авангардном духе, говорит о привычной среде обитания ее героев, в пятом углу — вместе со своим автором, под одними с ним искусственными звездами мегаполиса. Это место их бытования среди циклопических построек и глухих переулков большого города — безвыходное и излюбленное в одно и то же время, как ими самими, так и рассказчиком их историй. Даже когда силою вещей персонажи Довлатова оказываются вне Ленинграда, Таллина и Нью-Йорка (три безотказных поставщика его сюжетов), они и в советском таежном лагере («Зона»), и в пушкинских местах («Заповедник») — отгорожены от природы то колючей проволокой, то экскурсионной тропой. «Заповедник» — это ведь, в сущности, иная, «культурная» инкарнация той же самой «зоны».
И все-таки в довлатовской миниатюрной акварели, как в зародышевой плазме, содержится завязь художественных воззрений писателя Сергея Довлатова — на искусство в целом. Оно в первую очередь должно быть адекватно изображаемому, быть, говоря простыми и давними словами, «зеркалом на большой дороге». «Отражать» действительность можно сколь угодно прихотливо, драпировать «зеркало» со сколь угодной
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Компромисс. Заповедник - Сергей Донатович Довлатов», после закрытия браузера.