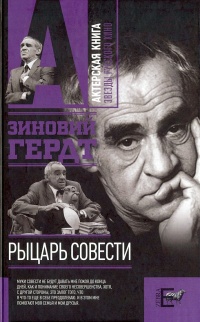Читать книгу "Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - Елена Скульская"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И много-много лет Самуил Лурье готовился к этой книге, чтобы в конце концов написать свой «Изломанный аршин». Он волновался, он присылал главами книгу друзьям (Андрею Арьеву и Якову Гордину в «Звезду», где она печаталась, и просто друзьям, чье мнение ему было интересно). И мы в письмах обсуждали, как разворошит он осиное гнездо, ленивый террариум академического литературоведения, как накинутся на него и станут рвать его крючьями, стряхивая с губ пену ненависти рецензенты, как начнется визг, хохот, людская молвь и конский топ. И, думается мне, ему хотелось этой брани! Ох, как хотелось!
(Вот какой разговор вспоминаю: Саня говорил, что в молодости ему часто представлялось, как его поведут на расстрел. И он дал себе клятву, что в последний момент, перед самым «пли!», он успеет им прокричать: «А пошли вы!» – «Господи, – поразилась я, – всего-то что пошлете их, и больше ничего?!» – «А больше ничего и не надо». Тогда я лишь удивилась, еще не зная, что трагедия немногословна и изъясняется она простейшими словами. Как он сам написал о Мандельштаме: «Кто-то запомнил шесть слов – будто бы Осипа Мандельштама последний текст: ЧЕРНАЯ НОЧЬ, ДУШНЫЙ БАРАК, ЖИРНЫЕ ВШИ».)
Но никто не повел на расстрел и никто эту книгу не расслышал. Друзья писали в основном частные письма. Враги и противники в основном молчали.
Я писала в письме, что в «Изломанном аршине» нет ни одного лишнего слова, что проза в нем доведена до безупречности и непреложности стиха, который хочется и зазубрить и запомнить наизусть по совету Пастернака.
Думаю, что в «Изломанном аршине» он довел до финала свою идею, свою мечту о порядочности, убедился, что она невозможна, невозможна даже в случае с Пушкиным. Что и он поступал (речь, повторюсь, не о любовных интрижках) лукаво, нехорошо, непорядочно.
И почему-то (не совсем, наверное, законно!) у меня зарифмовалась эта идея с рассуждениями Сани о «Капитанской дочке». Там все притворщики, все самозванцы: Пугачев притворяется Петром III, это-то мы знаем и сами, но ведь и Екатерина II притворяется обычной дамой в душегрейке, которой случается бывать при дворе, притворяется и Маша Миронова, делая вид, что не признала государыню императрицу, притворяется Швабрин, что равнодушен к Маше, притворяется Петруша Гринев, прикидываясь недорослем, притворяются его родители, записывая, по обычаю времени, Петрушу в полк, когда матушка была еще только брюхата им. Притворяется и Пушкин, будто разговаривает с читателем доверительно и простодушно.
Саня так рассказывал об этой своей работе:
«Может быть, «Капитанская дочка» полнее и непосредственней раскрывает внутреннюю жизнь Пушкина, чем другие его поздние произведения. Швабрин и декабристы, Гринев и Дон Кихот… Удивительные уподобления, которыми пронизан роман, не складываются в умозаключение, отпираемое универсальным ключом. В судьбах Гринева и Швабрина автор шифрует размышления о своей судьбе. Оттого ни один из них порознь не составляет самостоятельного характера и оба представлены гораздо подробнее, чем нужно для сюжета. Оттого Пушкин одалживает Гриневу свой голос, а Швабрину свою внешность. Швабрин, как и Гринев, не желает участвовать в Истории. Швабрину, как и Гриневу, на свете нужна лишь капитанская дочка. Это роман о бегстве дворянина в мещане, от долга к счастью, из истории в семью. Этот сюжет мы находим в жизни и лирике Пушкина в тридцатые годы. Потеряв связь с читателем и провозглашая независимость от него, Пушкин в этом романе стоит к нему спиной. Он не рассчитывает на понимание и подчиняет ход романа музыке тайных мыслей, не похожей на обычную логику прозы. Оттого в «Капитанской дочке» много потайных ходов и нарочитого авторского произвола… Оттого «Капитанская дочка», сколько ни перечитывай, остается произведением таинственным…»
А в «Изломанном аршине» все таинственности – не текста, но личности – отменены. Справедливость и порядочность оказываются для Лурье выше и даже важнее гениальной литературы, не поглощаются ею; не подразумевает высшая эстетика непременно этику, как уверял один из самых ценимых Лурье поэтов – Бродский. Важнее оказалось то, что поступили с Николаем Полевым (а с самим Самуилом Лурье?!) несправедливо, и Пушкин, в частности, к этой несправедливости был причастен.
Я писала отклики на каждую главу книги. В одном из писем говорила о том, что никогда еще из-под пера Сани не выходили такие веселые (именно веселые!) тексты.
Он ответил: «Дорогая Лиля, Ваши слова мне дороги бесконечно. Потому что, если раз в жизни сказать о себе серьезно, – я именно это чувствую, пиша этот текст: не саркастическую злобу, а веселье. Которое хочу передать или доставить таким людям, как Вы, я, Коля – боюсь, нас очень немного, – методом частичной и временной победы ума над Пошлостью.
Вот она нас всю жизнь насилует, как хочет, – но вдруг мне посчастливилось: застал ее врасплох с голой задницей. Особенное наслаждение тут в том, что факты сами подбегают и просятся: возьми меня, я помогу. Факты на моей стороне. Им нравится находиться в осмысленной связи. Поэтому и скандал – которого опасается (и отчасти желает – как, возможно, и я) Коля, – не особенно страшен. Что можно предъявить, кроме русофобии, порнографии да кощунства? Разве что сто раз повторить мои ФИО.
Боюсь, я разболтался. А ведь надо еще дописать. Но у меня такое чувство, что середина пройдена. Даже если я сегодня умру – образ книжки уже существует. Но все-таки надо еще отомстить за бедолагу Полевого. Да и еще кое за кого. Так что лучше не умирать, а постараться. Журнальный формат стесняет – хотя журнальный темп бодрит. Это я к тому, что мы говорим: книжка, книжка, – а книжка-то при моей жизни не факт что выйдет. А без меня и подавно вряд ли. И это отчасти жаль. Мне хотелось бы смешных иллюстраций. Издание для среднего и старшего школьного возраста. И кое-где распространиться свободно, чисто для удовольствия. Высказать разные оставшиеся мысли про литературу, и не только».
Мне очень нравилась книга, и она стремительно неслась вперед. И Саня отвечал на мои похвалы и соображения: «Я устал и поэтому отвечаю сентиментально. Спасибо, моя дорогая, за то, что Вы всегда относились ко мне так, как относились. Возможно, я и стоил такого отношения. Но, кроме Вас, этого никто не знал».
Конечно, знали все, кто читал внимательно Самуила Лурье. В ранней молодости, в начале 70-х годов минувшего века, Сергей Довлатов показал мне журнал «Аврора» с рецензией Лурье и сказал: «Так пишет гений».
Самуил Лурье всегда говорил с гениями как бог на душу положит. Гении для него – не начальство, не высшая инстанция, не значительное лицо, но достойные собеседники и не прощают лакейства. В литературе мы не найдем почти примеров изображения гениев персонажами, разве что о гениях пишет гений, и то не всякий решится. Булгаков, например, воздержался выводить Пушкина в пьесе «Последние дни»; для Самуила Лурье не было такой проблемы, он жил среди гениев прошлого, говорил с ними запросто, был понимаем ими и – зачастую – непонимаем современниками. Что же получается у Лурье? Что Пушкин был живым человеком, как и сам Лурье? Не в вечности, не в мраморе, не в бронзе, а в том самом пространстве, где пребываем и все мы. То есть возможно сравнение. Что невыносимо.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - Елена Скульская», после закрытия браузера.