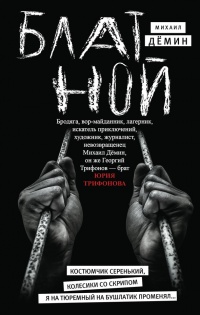Читать книгу "Пианист. Варшавские дневники 1939-1945 - Владислав Шпильман"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Родители, брат и сестры понимали, что бессильны что-либо сделать. Все свои силы они сосредоточили на том, чтобы держать себя в руках и создавать видимость нормальной жизни. Отец с утра до вечера играл на скрипке, Генрик занимался, Галина и Регина читали, а мать чинила белье.
Немцам пришла в голову очередная идея, как облегчить себе жизнь. На стенах домов появились объявления, что те, кто всей семьей добровольно явится для отправки на Umschlagplatz, получит буханку хлеба и килограмм мармелада на человека, причем семьи добровольцев не будут разлучены. Начался массовый наплыв желающих — тех, кто голодал или надеялся отправиться в неизвестность и пройти весь тяжкий путь, уготованный судьбой, вместе с близкими.
Неожиданно нам помог Гольдфедер. У него была возможность взять несколько человек на работу по сортировке мебели и имущества из квартир тех, кого уже депортировали из гетто. Работать надо было недалеко от места общего сбора на Umschlagplatz. Он взял меня с отцом и Генриком, а после нам удалось перетащить к себе сестер и мать, которая не работала вместе со всеми, а вела на новом месте наше домашнее хозяйство. Хозяйство весьма скромное: каждый из нас получал в день полбуханки хлеба и четверть литра супа, и главное было — постараться так распределить эту еду, чтобы обмануть голод.
Это была моя первая работа у немцев. С утра до вечера я таскал мебель, зеркала, ковры, нательное и постельное белье и одежду. Все эти вещи еще несколько дней назад имели своих хозяев, создавали неповторимый уют в чьем-то доме, принадлежали разным людям — с хорошим вкусом или лишенным оного, богатым или бедным, добрым или злым. Теперь эти вещи были ничьи, с ними обращались как попало. Иногда, беря охапку белья, я чувствовал нежный, слабый, как воспоминание, запах чьих-то любимых духов, да мелькали на белом фоне цветные монограммы. Впрочем, времени задумываться об этом у меня не было. Любое невнимание или минута промедления были чреваты не только болезненным ударом — палкой или подкованным сапогом жандарма, — но могли стоить жизни, как стало с теми молодыми людьми, которых расстреляли на месте за то, что они уронили и разбили парадное зеркало.
Утром 2 августа появился приказ, чтобы все, кто еще оставался в малом гетто, к шести часам вечера покинули его территорию. Мне удалось получить увольнение; на ручной тележке, что потребовало немало усилий, я вывез в казарму из квартиры на Слизкой немного нательного белья, свои сочинения, подборку рецензий на них и на свои выступления, а также скрипку отца. Это было все наше богатство.
Через несколько дней, кажется, 5 августа, мне удалось ненадолго вырваться с работы. Идя по Гусиной улице, я случайно стал свидетелем марша через гетто Януша Корчака со своими воспитанниками-сиротами.
В то утро Януш Корчак должен был выполнить приказ о выселении Дома сирот, которым руководил. Детей собирались вывозить одних, у него же была возможность спастись. Он с трудом упросил немцев, чтобы они позволили ему сопровождать детей. Посвятив детям-сиротам долгие годы своей жизни, он хотел остаться с ними, чтобы облегчить им последний путь. Он объяснил сиротам, что их ждет приятное событие — поездка в деревню. Наконец-то они смогут покинуть стены отвратительных душных комнат, чтобы отправиться на луга, поросшие цветами, к источникам, где можно купаться, в леса, где много ягод и грибов. Он велел детям получше одеться, и вот, радостные, нарядные, они выстроились парами во дворе.
Маленькую колонну сопровождал эсэсовец, который, как каждый немец, очень любил детей, а особенно тех, кого собирался отправить на тот свет. Больше всех ему понравился двенадцатилетний мальчик-скрипач с инструментом под мышкой. Немец приказал ему встать впереди колонны и играть. И так они тронулись в путь.
Когда я встретил их на Гусиной улице, дети шли весело, с песней, маленький музыкант им аккомпанировал, Корчак нес на руках двоих — самых младших, они тоже сияли, а Корчак рассказывал им что-то смешное.
Наверное, в газовой камере, когда газ уже сдавил детские гортани, а вместо радости и надежды пришел страх, Старый Доктор из последних сил шептал им:
— Это ничего, дети! Это ничего… — чтобы хоть как-то смягчить страх своих маленьких подопечных перед пересечением черты между жизнью и смертью.
16 августа 1942 года пришла наконец и наша очередь. На месте сбора произвели селекцию, и только Генрик и Галина были признаны все еще трудоспособными. Отцу, мне и Регине было велено вернуться в казармы, а когда мы пришли туда, здание оцепили, и раздался свисток
Сопротивляться дальше не имело смысла. Я сделал все, что мог, чтобы спасти себя и близких. Несмотря на это, было ясно, что спастись невозможно. Может, хотя бы Генрику и Галине повезет больше…
Мы одевались под доносившиеся со двора крики и выстрелы, которыми подгоняли людей. Мать собрала в котомку то, что было под рукой, и мы спустились вниз.
Перевалочный пункт находился на площади на окраине гетто. До войны это место, окруженное сетью грязных улиц, улочек и переулков, несмотря на свой неприглядный вид, хранило много сокровищ. По боковой ветке подходили сюда составы с товарами со всего света. За них вели торг евреи-коммерсанты, а потом — со складов, расположенных в Пассаже Шимона и на улице Налевки, эти товары попадали в варшавские магазины. Сама площадь имела округлую форму и по краям была окаймлена где домами, а где забором. Сюда вели несколько боковых улочек, служивших удобным сообщением с городом. Теперь все выходы с площади, на которой могло поместиться до восьми тысяч человек, были перекрыты.
Когда мы оказались на Umschlagplatz, здесь еще почти никого не было. Был прекрасный жаркий день на исходе лета. Серо-голубое небо словно превратилось в пепел от жара, который шел от утрамбованной земли и отражался от стен домов. А палящее солнце выжимало из измученных тел последние капли влаги. Люди метались в безуспешных поисках воды.
Одна из улиц, выходящих на площадь, была пустынна. Все, с ужасом глядя на это место, обходили его стороной.
Там лежали тела тех, кого вчера убили за какое-то нарушение, может быть, даже за попытку бегства. Среди трупов мужчин лежали останки молодой женщины и двух девочек с размозженными черепами. Все показывали друг другу на стену, у которой лежали тела, — она носила явные следы крови и мозгового вещества. Детей прикончили излюбленным немецким методом: схватили за ноги и разбили им головы о стену. По сгусткам крови и трупам, которые на глазах пухли и разлагались от жары, ползали большие черные мухи.
Вполне сносно разместившись, мы ждали поезда. Мать устроилась на узле с вещами, Регина сидела на корточках рядом с ней, я стоял, а отец нервно прохаживался взад и вперед, заложив руки за спину, — четыре шага в одну сторону и четыре шага в другую. Только теперь, в ослепительном свете солнца, когда уже не было никакого смысла морочить себе голову какими-то химерическими планами спасения, я смог повнимательнее присмотреться к матери. Несмотря на кажущееся спокойствие, выглядела она нехорошо. Ее некогда прекрасные, всегда ухоженные волосы, в которых еще недавно не было ни одного седого волоса, теперь серыми космами падали на измученное, покрытое морщинами лицо. Черные, блестящие глаза как бы погасли изнутри, от правого виска к уголку рта шел нервный тик, которого я никогда раньше у нее не замечал. Этот тик свидетельствовал о том, как глубоко она переживала все, что творилось вокруг. Регина плакала, накрыв лицо руками, и слезы текли у нее между пальцами.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Пианист. Варшавские дневники 1939-1945 - Владислав Шпильман», после закрытия браузера.