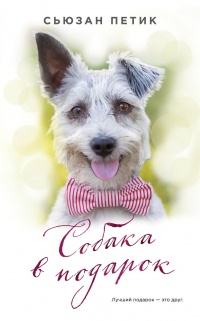Читать книгу "Авиньонский квинтет. Ливия, или погребённая заживо - Лоуренс Даррелл"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лишь теперь, по прошествии долгих лет, переворошив кучи разных писем, он может выстроить плавную кривую amor fati[64]— привязанность к Ливии — классический пример. Если он спрашивал, какой была ее мать, ему всегда отвечала Констанс, но однажды, при других обстоятельствах, Ливия только посмотрела на него своими черными глазами, вдруг потускневшими, как мертвые улитки, и облизнула губы, словно собираясь ответить, но так ничего и не сказала. Констанс писала в письме: «Я помню старую-престарую даму со сверлящим взглядом голубых глаз, с впалыми щеками из-за отсутствия зубов, протезы ничего не меняли, так как были плохо подогнаны. До замужества она была актрисой, довольно заурядной. А постарев, в основном, предавалась безумным сожалениям о том, что былые радости, питавшие ее больное тщеславие, канули в прошлое. Дипломатический мир — мир добреньких изворотливых миног — иллюзорный фон для ее прихотей. Она вроде бы веселилась напропалую, но у демона случайности была крепкая хватка. Она всегда гонялась за мишурой. Но вот красота поблекла, и все ей стало ненавистно — в первую очередь она возненавидела своих дочерей из-за их юной прелести. Великое предостережение о неизбежности расплаты и распада будто бы ее не касалось. Итак, она постепенно превращалась в прах, а мы постепенно расцветали. И тогда ее обуяла лютая злоба, а потом и ненависть, которой, надеялась она, с лихвой хватит, чтобы отравить нам жизнь и искалечить души — даже когда ее уже не будет в живых! Она твердила, что ее груди сделались дряблыми только потому, что она слишком долго кормила нас. Она, видите ли, испробовала все, чтобы вернуть им упругость, не решилась только на хирургическое вмешательство. Даже дурацкие ventouses[65]надевала, которые якобы должны были сделать их твердыми. А мы… мы лишь все сильнее ощущали эту нарастающую ненависть, ничего не понимая. Только теперь, когда все в прошлом, что-то стало проясняться. Великое дело — научиться прощать. Взгляните на Ливию!»
Он глядел на Ливию, на ее лицо, которое вызывало в нем неодолимый трепет счастья. Его даже не столько ранило, сколько удивило, когда юный Сэм заявил, что у нее глаза, как у дохлой рыбы, и что в волосах у нее перхоть, и вообще, он сам никогда не смог бы в такую влюбиться. Все дело в восприятии. Поэтическое восприятие устроено таким образом, чтоб выискивать объекты страсти. Эта влюбленность, в сущности, его сформировала, подарила ему первую короткую историю, которая оказалась самой значительной в его долгой жизни. Что и говорить, без Ливии, без тогдашней страшной встряски он ни за что не взошел бы на этот мучительный незатухающий костер, не угодил в порочный круг, в котором она была своей. Это все происходило в Париже, где Ливия в то время занималась живописью, что-то в духе кубизма. Он-то сам был до такой степени простодушен и неискушен, что не распознал в этих очаровательных, хотя и порочных персонажах их сути, а они вели себя очень осторожно, чтобы «малыш» ни о чем не догадался. Так же жила и она, наслаждаясь двусмысленностью, среди добрых друзей, гомиков и лесбиянок, безусловно, по-своему весьма обаятельных и восприимчивых. Будучи изгоями, они старались занять солидное общественное положение, что было весьма предусмотрительно, поскольку в большинстве были людьми довольно апатичными, и хорошо это осознавали. В их общении с иными людьми чувствовалась некая неуверенность… они ощущали себя какими-то плоскими, одномерными, почти непроницаемыми для импульсов извне. Перезваниваясь по нескольку раз в день, они как будто успокаивали себя: да, мы реально существуем. Еще они выпускали каталоги, где говорилось об их благосостоянии, о творческих успехах, которые были своего рода удостоверениями жизнеспособности личности.
Позднее, когда Констанс вкусила (пожалуй, даже больше, чем следовало) знаний,[66]она гораздо четче сумела обрисовать жестокий парадокс самоидентификации Ливии; абсолютный нарциссизм, который выражается в извращенности, порожденной недостатком материнской любви. Но вот что самое ужасное: сексуальное удовлетворение Ливия могла получить лишь в воображаемом инцесте с предавшей ее матерью, в пародии на любовный акт. Однако малейший намек на истину вызывал поток ругательств, в устах Ливии они звучали еще чудовищнее, похожие на отвратительные надрывающие сердце вопли больной птицы. Ему вспомнилась фраза из черной записной книжки, в которой он пытался зафиксировать словами кое-какие особенности ее натуры. Глядя на Констанс, и с жалостью, и с раскаяньем, и с ненавистью, его Ливия думала: «Нет, никто так не бесит, как непрошибаемые праведницы, с их естественной и беспомощной добротой». Но ведь и Констанс пришлось пережить разочарования и обманы, и далеко не сразу она сумела понять, что многое абсурдно и фальшиво. И вот что она однажды написала: «Любовь — это банановая кожура, которую насмешница жизнь бросает под ноги мужчинам и женщинам, чтобы посмотреть, как они поскользнутся и рухнут на тротуар». Самое главное, она поняла и простила свою сестру, ведь она любила ее, и так счастлива была бы видеть ее счастливой, что не переставала верить, вопреки всему: их с Ливией отношения одолеют любые невзгоды. Блэнфорд никак не мог вспомнить, когда он сделал эту запись в своем дневнике: «Боюсь, вся ее жизнь — это сплетни и курение; я женился на болтушке и снобке». Но и это было еще не самое худшее; ощущение потери нарастало, делалось все более мучительным, по мере того, как Ливия мало-помалу обретала уверенность в себе и уже не так рьяно сохраняла свою тайну.
У разума есть свои пределы, телесные пределы; стало быть, их легко достичь, вот вам простенькое умозаключение. Сам виноват, думал Блэнфорд, наклоняясь, чтобы помешать золу. Сам утроил эту подмену. Мыс Констанс слишком долго раскачивались для того, чтобы узнать друг друга получше. Ну да ладно. Ослепленный непривычным счастьем, я случайно услышал телефонный разговор Ливии и Трэш, ее милашки с острова Мартиники, и насторожился. Совершенно незнакомым мне голосом она сказала: «Просто я решила женить его на себе». Обернувшись, она увидела, что я стою в дверях, и сразу положила трубку. Я промолчал, и через мгновение она успокоилась — наверное, потому что я не стал ничего выяснять. «Это Трэш, — только и сказала она, — мы собираемся сегодня послушать оперу». Ей было прекрасно известно, что я терпеть не могу оперу. Но на этот раз, узнав, где они собираются сидеть, я тоже купил себе билет — на галерку. В театре я быстренько нашел их места, вот только заняты они оказались другими, совершенно незнакомыми мне людьми.
Подобные открытия кому-то в горе, а кому-то и в радость, все зависит от контекста. По-настоящему обидным было удостовериться в своей чудовищной неопытности. Блэнфорд только теперь это понял. Ливии была уготована трогательно-прекрасная судьба сделать из него мужчину — естественно, те, кого мы проводим через обряд посвящения, на всю жизнь получают наше невидимое клеймо — знак самой жизни. «Невинный дурачок, дитя Природы, не я ль учила тебя е…!» — могла бы воскликнуть она, как это сделал при схожих обстоятельствах Сатклифф, не преминувший вспомнить строчку из Джона Донна. Тем не менее, период пылких иллюзий обещал продлиться дольше, чем лето. Может, даже хватило бы на всю жизнь, если бы… Если бы по роковой случайности он не наткнулся на письмо, которое она забыла спрятать или порвать. И тогда все встало на свои места. Его сердце сжалось — от горя и отвращения; отнюдь не из-за попранных моральных устоев. Его поразил обман, жестокий, никому не нужный. Едва ли не в то же мгновение он возненавидел обособленную кучку бесполых монстров — les handicapés[67]а заодно и Париж, который всегда казался ему чересчур гротескным, однако был теплым и живым, дарил много ярких впечатлений. Как он пережил тот август, когда невозможно было дышать от постоянных мыслей о том, что он не один, что он делит ее с парижанкой, у которой черное сердце? Блэнфорд принялся писать ей письма, оставляя их повсюду в квартире. Он переехал в меблирашку, однако свой ключ оставил у себя и приезжал работать в набитый книгами кабинет. Душа его все еще кровоточила, наслаждаясь ее красотой и воспоминаниями о ее потрясающих безумствах в постели; в то время он написал поэму, в которой очень метко нарек ее «жарким созвездием». Поэму опубликовал журнал «Критик», но Ливии он его не показал. Значит, королевой ринга была Трэш? Ему казалось, что он, упав с дерева, ударился головой… или нырнул в пустой бассейн. Однако почти автоматически Блэнфорд продолжал делать записи в черной записной книжке. («Новая модель интимных отношений будет каким-то образом замешана на смерти как на самом главном жизненном опыте. Любовники будут всплывать на поверхность животами кверху, мертвые от истощения».) Он сгоряча подробно изложил свою новую идею Констанс, но письма не отправил. Спустя много лет, обсуждая с ней то время, он порадовался, что не отправил. Констанс занималась куда более серьезными проблемами и все еще была слишком скованной по причине сексуальной неопытности. Кажется, именно в то лето она собралась выйти замуж за Сэма — что тоже стало потом предметом длительных и подробных размышлений. Однако пережитый шок отчасти благотворно повлиял на Блэнфорда. Он сразу научился видеть реальную жизнь вокруг, словно прежде его окутывал густой туман, который вдруг рассеялся. Вот это была настоящая инициация, настоящее пробуждение и вступление в зрелость. Он вдруг увидел, например, что эти две влюбленные козочки делали с мужем Трэш, вполне благочестивым мужчиной. Росточка он был небольшого, кудрявенький, коричневенький… Интересно, знал ли он, что творилось за его спиной? Наверное, догадка маячила где-то на краешке сознания, пугала его — пока в виде тревожного предчувствия. Сначала он погрузился в летаргию — обычная реакция после потери крови; обе вампирши отлично знали, как подступиться к жертве!
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Авиньонский квинтет. Ливия, или погребённая заживо - Лоуренс Даррелл», после закрытия браузера.