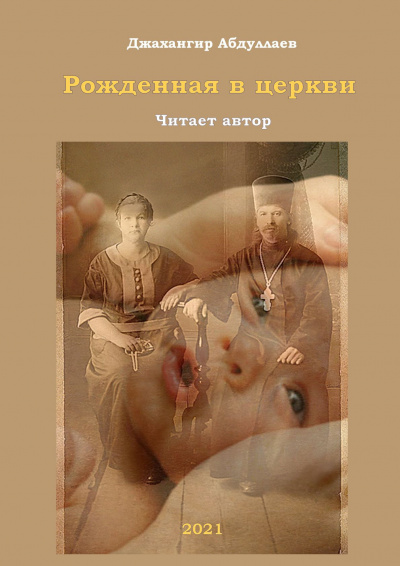Читать книгу "Прикосновение к человеку - Сергей Александрович Бондарин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ, ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ О ПРЕКРАСНОМ БЕРНАРЕ
Паустовский вернулся из Франции.
Как-то много лет тому назад мы вместе мечтательно рассматривали план Парижа в превосходном французском издании.
Излучина Сены, названия многих знаменитых зданий, улиц, площадей и мостов, воображаемые перспективы бульваров, полных движения и красок, воображаемый плеск реки — все это во многом было для меня ново, первоначально, но имело то же очарование, которое производит незнакомая и трогательная песня издалека или музыка, вдруг услышанная из чужого раскрытого окна.
Константин Георгиевич, однако, уже тогда хорошо знал все эти названия, он изучил план Парижа назубок, а вернее сказать — все-таки на глазок, — все помнил он безупречно-отчетливо и так же ревниво, как взволнованный художник в своем воображении оберегает план любимого творения.
В те годы, случалось, не раз мы играли в незамысловатую игру: кто-нибудь из нас — иногда Ильф, заливающийся при этом румянцем, иногда Багрицкий, а чаще всего сам Константин Георгиевич — совершал прогулку или шел в гости к другу, допустим, с Рю Бонапарт, находящейся на правом берегу Сены (Рив друат), в какой-нибудь квартал левого берега (Рив гош).
Надо сказать, не только романтически пленяли и манили к себе, но и многому учили великие истории великих городов и людей.
Конечно, подобная незатейливая игра была не только забавой и не только для нас, разновозрастных друзей Паустовского, — скажите, кто не уносился, не «уходил» в молодости на острова Тихого океана или хотя бы из захолустной Тотьмы или сонного Херсона в Москву, в Ленинград — иногда и на самом деле с котомкой за плечами.
Помнится, тогда же как-то мы заговорили о великой и величавой силе преемственности, о сочетании времен и пространства, о самом светлом богатстве человечества, самом сверкающем и всенародном. И мы сравнивали это золото с золотом той волшебной цепи, которое помогает не одному только пушкинскому коту и говорить и петь. Легкий звон этого золота понятен на всех языках. А наша задача, сказал тогда молодой Паустовский, сделать его понятным и желанным и для юных и для старых, и если уж для неудачников, то тем более понятным и вразумительным для людей удачливых, способных в своем преуспеянии преступно забыть об э т о м богатстве.
— Будет все, — умиротворенно говорил тогда Константин Георгиевич. — И мы будем здесь, — он близоруко рассматривал карту. — Мы пройдем по этим местам и бульварам, будем в Марселе и посетим солнечные бухты юга Франции… Представляешь ли ты их себе? Эти причалы, этот скрип маленьких рыболовецких шхун, эти чудовищные стены и башни, возносящиеся над гаванью, оставшиеся от римлян и крестоносцев?.. Не напрасно человека тянет его душа то туда, то сюда, нет, не напрасно, думаю я! — И продолжал своим милым, тихим голосом, уже тогда отдающим астматической хрипотцой. — Я иногда думаю, — продолжал Паустовский, — что и Пруст и Мопассан — они тоже знали о нас, как мы знаем о них. Тут нет ничего странного. Ведь всех нас роднит общее, одно и то же понимание главной задачи жизни, один общий труд и общая смелость, почерпнутая у народа. Ведь как раз это — труд и смелость — самые сокровенные, самые важные открытия души. Смелость души, ее полет. Что может быть смелее сказок? И кто сделал это открытие в самом себе, тот побывает всюду… а к тому же, — добавил Константин Георгиевич, — к тому же я по призванию матрос. Помнишь ли Бернара? — неожиданным вопросом закончил Костя. — Бернара, старого матроса, мопассановского друга?
Стыдно сказать, но я в то время не только еще плохо разбирался в направлениях парижских бульваров — я впервые услыхал тогда имя Бернара, старого моряка из Антибов, верного друга смертельно больного Мопассана. В Париж к доктору Бланш он уехал прямо с борта своей «Бель Ами», на которой и служил матросом Бернар.
Но Паустовский, как мне теперь совершенно ясно, никогда не забывал не только залпы у Стены коммунаров, не только Мопассана, — он навсегда полюбил образ простодушного друга Мопассана — простолюдина Бернара. Все это я понял после вчерашнего разговора.
Вчера мы опять сидели над планами и цветными картами прекрасной страны, заманчивой для каждого, кто хотя бы немного о ней услышал; и среди ненасытного разговора о Франции я наконец осторожно сказал:
— Богатство! Конечно, верно, что богатство бывает разное. Но что можно было бы привезти оттуда как самое ценное впечатление поездки?
Да простится мне и этот, вероятно, не совсем деликатный вопрос и дальнейшие неизбежные признания.
Ответ последовал поразительный, в нем, должно быть, заключался отклик на вопрос о том, что же «путешественник в прекрасном» считает осуществленным, какие мечты оправдались, чей образ сохраняется в душе ярче других.
Ответ был поразительный именно тем, что на этот раз я услышал не о бульварах или чреве Парижа, не о Золя или Мане, не о том, что так весело рисовалось в молодости, — и право, теперь я еще больше люблю Константина Паустовского: я лучше понял человека и смелее могу благодарить его, старшего друга, за долгие годы душевного соседства, дружбы и познания.
Вот что ответил мне Константин Георгиевич, передаю слово за словом:
— С каждым годом наново и все сильнее — а кажется, куда уж больше! — волновал меня маленький рассказ Бунина «Бернар». Помнишь ли его? Послушай (не удивляйтесь, многие страницы прозы Паустовский знал наизусть): «Дней моих на земле осталось мало», — пишет Бунин. И при этом, — продолжал Паустовский, — он незаметно присоединяет к словам Мопассана свои новые звенья волшебной «Златой цепи», перебирая их руками… И, знаешь, не так уж важно, где говорит Мопассан, а где — Бунин, а где — уже и твои собственные мысли. Тем лучше, если получается именно так… Но послушай дальше:
«Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен к чистоте и порядку, заботлив и бдителен, чистосердечный и верный человек, превосходный моряк…»
Не один раз они вдвоем с Мопассаном видели, как в далеком небе над Ниццей зажигались «каким-то особенным розовым огнем» снежно-белые хребты Верхних Альп. Они любили этот «легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается»…
Потом Мопассан умер… Потом умер Бернар. Нет ни Мопассана, ни Бернара, и теперь рассказывает уже другой человек, тот, кто видел Бернара незадолго до его смерти:
«Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького антибского порта, где так часто стояла мопассановская яхта «Бель Ами». Он умолк навеки. Последние слова матроса были: «Думаю, что я был хороший моряк»…»
Но вот послушай дальше, — все тем же медлительным тихим
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Прикосновение к человеку - Сергей Александрович Бондарин», после закрытия браузера.