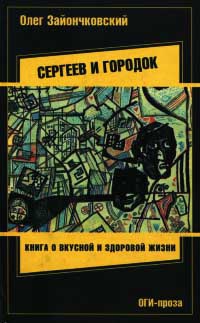Читать книгу "Harmonia caelestis - Петер Эстерхази"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— У отца появились дела, ну а мы — живо, живо — домой…
Что касается — «говорить все, что думаешь», то, как мне довелось убедиться позднее, до добра это не доводит.
199
В том, что отец остановится, уверенности ни у кого нет. Но мать, конечно, уверена и потому следует за ним, время от времени притормаживая, так что отец идет метрах в полутора впереди нас. Иногда он задорно оглядывается на нас, словно умная лошадь.
Кажется, что он тянет воз, тянет все, тянет всех. Он не осаживает назад, а, замедлив бег, медленно останавливается. И аккуратно освобождается от сбруи, не рвется из нее, не запутывается ногами в постромках, а снимает сначала узду — наша мать застывает в недоверчивом ожидании, спина ее выгнута, как у кошки, неуверенность и неопределенность делают ее некрасивой, — вынимает изо рта удила, сверкающие под мартовским солнцем, с них капает пена, одним движением отец сбрасывает с головы налобник, шоры и подбородник, от чего волосы взъерошиваются, копна копной, есть такие фотографии Эйнштейна (абсолютный хаос снаружи и строжайший порядок внутри), мы смеемся над его клоунской прической; наконец он скидывает шлею и оборачивается к нам: в зубах у него сигара.
Светит солнце, как улей, гудит центр города, о мгновенье, остановись!
— Собаки! — по-барски попыхивает мой отец сигарой. — Что-то я притомился, поэтому в виде исключения поедем сегодня домой на таксомоторной тяге.
— Та-а-кси! — с придыханием тут же кричит наша мать, потому что осознает, что в таком случае ничего не произойдет; потому что хорошо то, что не произошло. (В этом и заключалось ее величайшее поражение, в этом «потому что» и в этом «хорошо».)
— Ты, наверное, тоже устала? — спрашивает наш бедокур отец. Мать застенчиво опускает голову. Родители наши столь целомудренны, что ни разу (в течение всех времен) мы их не застукали, самым большим провалом был поцелуй. Нам не нравится их воркование, скорее неприятное, чем трогательное, между тем оно в самом деле трогательное. Мы орем, передразнивая нашу мать:
— Та-а-кси! Та-а-кси!
200
Отец, привалившись к стене собора (францисканцы), готов уже съехать на землю, но мать, подскочив, осторожно усаживает его на паперть, голова его то и дело падает, словно в шее отсутствует некая мышца (кивательная или как уж ее назвать?), мать старательно поднимает голову, пока ей не удается прислонить ее к стенке. Непонятно: то ли стенка держит отцову голову, то ли голова поддерживает стену собора? Лоб отца лоснится от жирной испарины, волосы, как воробьиные перья, взъерошены. Выудив из глубин своей сумки носовой платок, мать набрасывает его на лицо отца. Мы смотрим, нам это надоело.
Как говорится, ситуация яснее ясного.
Неожиданно до нас долетает кисловатый и резкий запах нашатыря, мы пятимся, возвращаемся, но запах не исчезает.
Наш отец как бесцветный и не имеющий запаха, отвратительно пахнущий газ.
Но вот он приходит в себя. Нас он не видит, встает, смахивает нас с себя, выныривает из пиджака. Рубашка выбилась из брюк, полощется на ветру.
И вдруг пускается в пляс.
Он вытягивается, одна рука полусогнута над головой, другая заложена за спину, голова гордо вскинута; на венгерский манер, вспоминая пастушьи костры праотцев, он кружится, все быстрей, все стремительней, притопывая, плечи развернуты, волосы развеваются, мать от страха сливается с церковной стеной.
Особого внимания на отца никто не обращает, бросают беглые взгляды, подумаешь, пьяный куражится, какой-то алкаш.
— Пошли! — отделяется мать от церковной стены, швырнув в сторону пиджак отца. — Нечего нам тут делать! — и хватает нас чуть ли не под мышку, и тащит в сторону отеля «Астория».
Из объятий матери освобождаюсь не я — я помалкиваю, пусть несогласный, но все же покорный, — а мой младший братишка, который, даром что маменькин сыночек, идет обратно, к отцу. Тот вращается в бешеном темпе, топает, будто танцует чардаш с неким привидением. Мой братишка наблюдает за ним, потом делает одно-два несмелых движения, приноравливается к ритму отца и втягивается в танец, в его бешеное кружение. Они сходят с ума, я вижу, что этот темп не под силу братишке, но он вдруг начинает сам вести танец, диктовать темп и, как разгоряченную лошадь, успокаивать отца, но-но, потише-полегче, вот так-то, спокойней, мой дорогой Зульфикар, спокойней, хороший коняга, вот так, хорошо.
Они останавливаются, запыхавшиеся, мокрые. Что дальше? Отец вдруг пошатывается, братишка подхватывает его и, будто мешок, волочит назад, к церковной стене. Отец садится. Постепенно приходит в себя. И усталым, исполненным благодарности взглядом смотрит на сына, моего младшего брата.
— Пошли, папа.
— Не-е, — упрямится мой отец, — поди лучше ты ко мне.
Братишка робко подходит поближе, отец, зажмурив глаза, будто греясь на солнышке, дает брату понять: ближе, ближе. Братишка, жалея уже об измене, вновь оглядывается на мать, он уже рад бы присоединиться к нам. Отец, едва приподняв ресницы, наблюдает за тенью брата (это самое большее, что он замечал, глядя на нас) и внезапным молниеносным движением, словно змея гремучая, обрушивается на брата, хватает его — тот от страха не может ни вскрикнуть, ни зареветь, хотя именно этого ему хочется сейчас больше всего, — и прижимает, притискивает к себе, обнимает. Братишка от страха и злости пыхтит и, прижатый к груди отца, таращится на оказавшуюся у него перед носом желтовато-грязную стену церкви. Отец гладит его по вихрам.
— Мой малыш.
— Нечего меня гладить! Вы лучше погладьте… — Эту фразу закончить еще никто никогда не осмеливался.
— Ты спрашиваешь, в чем дело, старик?
— Нет! Нет!
Теперь отец успокаивает и ласкает брата. Спрашивает, видит ли он на стене собора доску. Вот эта черта показывает, насколько поднялась вода во время наводнения 1838 года. У острова Чепель тогда возник ледяной затор, и вода хлынула в город. Короче, они, стоя здесь, оказались бы под водой, и самое умное, что им следовало бы делать, — шевелить жабрами; а рядом с их головами плавали бы рыбы, жирные карпы, подлещики шустрые да ледяное крошево, а сверху виднелись бы днища баркасов и, может быть, даже небо, какая-то синева, процеженная через воду; а еще мы увидели бы с тобой героического Мику Вешшелени, опять-таки снизу!
— Шевели, шевели жабрами, сынок, без кислорода тебе хана… Я разорву тебя, как рыбу… Да, старик, хорошо нас умыли, нету, брат, ни тебя, ни меня, не говоря уже о твоей матушке, нету церкви, а площади Освобождения и подавно, единственное, что нам осталось, это, видимо, жабры… или… лапки протухшие лягушачьи… кстати, я с твоим дедом когда-то едал их в венском «Бристоле»… вот были лапки так лапки… Твой дед был гурман, а я любил просто пожрать. Или — или.
Он задыхается. Братишка испуганно смотрит по сторонам.
— Сенткутская ярмарка! — вдруг кричит мой отец. — Оглянись! Чем тебе не сенткутская ярмарка?! Сейчас я тебе спою.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Harmonia caelestis - Петер Эстерхази», после закрытия браузера.