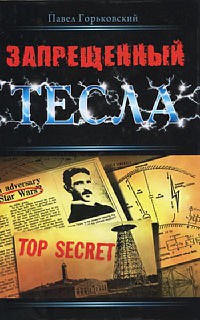Читать книгу "Исповедь нормальной сумасшедшей - Ольга Мариничева"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пригодились и мои советы. Все в клубе как один влюблялись в Женю Двоскину – хрупкую, прехорошенькую, с фигуркой вечного подростка. Она же надувала губки, когда очередной провожатый вызывался ее провожать, жаловалась мне: «Ну вот, опять всю свою биографию рассказывать». Узнавая об очередном поклоннике, отмахивалась: «А, это как корь, все должны переболеть». Вот такая ледышка. Когда же к этой девочке-подростку пришла любовь, а он, как на грех, любил другую, то мы часа три просидели у озера в Ботаническом саду, и я рассказывала ей то, что должна была рассказать мама, о чем принято у подружек шептаться по углам, а мы с Женей обсуждали совершенно свободно – вернее, это я говорила, а она впитывала, глядя в траву и теребя цветы...
* * *
Мне мой Учитель говорил: «Живем в грехе». – «Почему? – удивлялась я. – Ведь ты сам в наш первый вечер сказал, что тоже свободен». Оказывается, эта «свобода» значила вот что: когда гости в доме, то все вместе сидят за столом, а в остальное время папа живет в другом месте и туда никто из домашних не ходит: папа работает. Или как у моей подруги просто есть Старший муж и Младший муж. Я никогда не понимала и не принимала такие семейные отношения, я не хвалюсь – может, просто потому, что у меня не было детей. И все же для меня «жить не по лжи» начинается с самого сложного – с семьи. Иначе эта ложь так и не отлипнет всю жизнь.
Одна из старших наших девчонок-коммунарок, приехавшая из Челябинска с еще двумя парнями-коммунарами (потом оказалось, это был любовный треугольник), стала советоваться с Женей Двоскиной и Сашей Фурманом, делать ли ей аборт, те пришли ко мне с полными ужаса глазами: как, убить живое? Про себя я тогда подумала: тоже нашла, у кого спрашивать, они ведь жизни не знают. Теперь я понимаю, что лучше не знать жизнь, сидеть в башне из слоновой кости с вмонтированным в ней маяком и светить тем немногим, которым еще нужен и важен свет не только для рыбной ловли. А эта самая жизнь, которую мы не знаем, пусть себе устраивается как хочет, наше дело светить.
* * *
Меня не покидает чувство, что с детства меня ведут, переплетаясь, две силы, пронизывая меня – как два крыла, как две ветви: черная и белая. Черную можно назвать чувственностью, страстью, похотью, белую – любовью. Я знала, что черную в себе надо убить, растоптать, но я думала перехитрить ее и просто всю эту мощную энергию каким-то образом перевести в белую. И общение с Юрой меня к этому подталкивало. Но главный путь шел через лабиринты больниц. Мне даже кажется порой, что меня ведут по какой-то крутой лестнице: когда приступ (то есть бред) – это горение, сгорание, вспышка, затем спустя некоторое время опять депрессия, а за ней – ступень, оказавшись на которой, обнаруживаешь все меньше и меньше черного в себе, оно-то и сгорает. Белое – крепнет.
...А в последний раз в бреду явился «хозяин». Властелин. Он каждый раз являлся, но его-то я и забывала. Он был Властелином – в общем, вел себя, как прежние секретари обкомов в своих лесных домиках или теперешние мафиози (временная оболочка тут не важна). Этот приперся из времен Тараса Бульбы. Ему надо было угождать, а еще ему, если не ошибаюсь, нужна была я. Мама хитростями и угощениями отвлекала его внимание, а спасла меня Галя Положевец, жена моего друга, она просто легла со мной, и Властелину было сказано, что место занято. Уж не помню, но как-то он испарился. А всю ночь, пока это происходило, я твердила маме: «Ну пусть же он зайдет, я же знаю: Юра – в прихожей».
«Встань, посмотри сама», – отвечала мама. Но я это воспринимала, как какую-то очередную ее хитрость.
...Наутро мама удивилась, почему я на нее со злостью смотрю и называю на вы. Мне, правда, довольно скоро пришло в голову, что никого она не обслуживала, а просто уже которую бессонную ночь дремала с больной дочерью. Может, все это и происходило в каком-то там измерении, но бейте меня, режьте на куски – в прихожей стоял Юра! Даже если он сам этого не знает. Даже если это просто измерение моей мечты.
Я верю: если в моих мучениях тебя не было, Юрка, то тогда, значит, в той прихожей был Гарри. Гарри, которого нигде нет, кроме моей души.
И вот я опять сижу на даче. Жара, июль. К рукописи не прикасалась три года, ибо Сашка Фурман (Фур, Фура) разнес ее в пух и прах. Сколько, говорит, можно туда-сюда из депрессии в подъем бегать (маниакалов у меня давно уже нет), и вообще, надо писать не «я», а – «она». Ему хорошо, он роман выпустил, который так и называется: «Книга Фурмана». О детстве своем с младенчества: Фурман встал, Фурман пошел, Фурман покакал... Так у него же направление такое – «новый реализм», а у меня – всего лишь, очевидно, «искренний сентиментализм», который, по словам Михаила Эпштейна, должен прийти на смену постмодернизму. (От скромности я не умру.) Впрочем, Олег (бывший муж), работающий в журнале «Вопросы литературы», сказал, что вещица моя – премиленькая (он даже назвал сию повестушку превосходной), и заявил, что жанр для нее в литературе, оказывается, уже есть: называется «человеческий документ». Документ так документ, человеческий – и на том спасибо. Но после фурмановского разгрома я была безутешна...
* * *
Спасибо Борису Минаеву – он меня спас. Явился вчера (мы соседи по дачам) и сказал, что вещь замечательная (или что-то в этом роде), но надо дописать концовку. Вот пишу...
Если депрессия опять не нагрянет – напишу вторую часть книги – «Та, Которая Есть». О том (и тех) удивительном, что помогало мне выздоравливать. Кстати, и Инна Павловна Руденко (обозреватель «Комсомолки» и мой друг), и Раюшкин (психиатр, мой лечащий врач) в один голос твердят, что вот-вот моя циклотимия выдохнется, годам к пятидесяти, это точно. А сейчас мне – сорок восемь.
В журнале «Огонек», где Борька зам. главного редактора, прочитала, что существует пять симптомов гениальности; так вот, два из них у меня есть: высоколобость и циклотимия. Осталось всего ничего: парочка-тройка каких-то там синдромов. Ну, какие наши годы!..
Засим остаюсь Вечно Ваша
С поклоном,Марина Заречная
(естественно, псевдоним)
Дача, поселок Мамонтовка
по Ярославской железной дороге,
Московская область.
6 июля 1999 года
Прошло время.
Разговор в приемной клиники на Каширке с Владимиром Анатольевичем Раюшкиным:
– Ну, что случилось?
– Я устала.
– От чего?
И почти одновременно оба произносим:
– От самой себя.
– Так и запишем.
(В историю болезни, вестимо.)
С облегчением узнаю, что мой случай МДП все-таки неизлечим.
Еще пригодилась формула Владимира Леви, что есть три категории больных: психически больные, душевно больные, духовно больные.
Так вот, иногда, чтобы душе спастись, она вынуждена уходить в психоз. Что и случилось со мной тогда, в апреле 1981 года.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Исповедь нормальной сумасшедшей - Ольга Мариничева», после закрытия браузера.