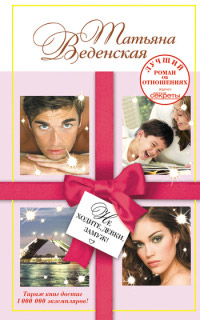Читать книгу "Уже и больные замуж повыходили - Лидия Сычева"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Не знаю, — смеется Лера. — Тебе по твоим думам давно пора в монастырь, — она еще что-то говорит, но я ее уже не слушаю, судорожно хватаю свои сегодняшние записи, ищу: ага, вот! У меня получается:
«Авва Моисея. Шестая.
Брат некий пришел в скит к авве Моисею, прося у него поучения.
Говорит ему старец — Ступай, затворись в келье твоей; и келья научит тебя всему».
Дни пошли похожие один на другой. С утра мы отправляемся в музей, работаем до обеда, перекусываем бутербродами и снова корпим над свитком. Текст оказался не вполне оригинальным, да и век — четвертый, как выяснилось позже. Гусев занимается происхождением, прорабатывает эрмитажную версию. Худо-бедно, но переводы двигаются. Правда, мне пришлось отказаться от многих жизненных удовольствий, и на вечерние прогулки Лера теперь отправляется одна.
Для себя я иногда оставляю совсем вольный перевод. Вроде такого:
«Авва Арсения. Вторая. И сказал Арсений:
— Взял Господь в руки хлеб и отломил край. То — женщина».
Лера смотрит на такое творчество скептически — параллельно с работой она учится в аспирантуре МГУ и собирается защищать диссертацию по феминизму. Впрочем, на ее передовые идеи я тоже взираю с подозрительностью — если она такая независимая, то почему покорный Гусев платит за ее ужины? Спорим мы часто, и я с тоской чувствую себя ископаемым, вымирающим видом. Аргументы мои рассыпаются как свиток. Лера здорово подкована и рьяно сражается за равноправие женщин. В труде, творчестве и политике. Я вяло соглашаюсь, но про себя думаю: «Какое равноправие? Все равно в мужиках больше и ума, и дури. Соответственно, дерзости и таланта. Какая конкуренция, если каждый месяц я на неделю стабильно выбываю из строя, плюс три дня неизбежной депрессии, не говоря уж о ежедневном бремени по обустройству жизни. И при чем тут участие в политической борьбе? Да не хочу я никакого участия! Бред, атеизм». Короче, все это меня злит. А тут еще слово, которое нужно тащить из себя, и делаю это я из последних сил, возмущаясь — вот тебе равноправие! Я вздыхаю и перевожу: «Авва Пимена. Шестьдесят третья. Сказал авва Пимен:
— Приучи уста твои говорить то, что есть в сердце твоем».
Нам потребовалось три недели. Конец свитка не уцелел — после тридцать седьмой аввы Сисоя Великого папирус кончался рваным краем. Мы заполняли последние бумажки, склеивали фотокопию. Пришел Гусев, довольный: «Едем на острова, в дельту».
«Дельта, черная земля, Египет — дар Нила» — вертелось у меня в голове. Гусев вел «Москвич», аккуратно объезжая лежащих прямо на дороге худых грязных коров. Мы ехали дальше на юг, в Караульное, к старинному гусевскому другу, у которого есть моторка, острога и икра.
Наконец-то впервые за все время распогодилось, и солнце щедро плескалось в бесчисленных протоках и ериках. Я взгрустнула, что не взяла купальник, что проходит лето и что меня занесло в такую даль… Но внешних причин для печали не было — розовый кустарник цвел по обочинам, качали метелками серые камыши, услужливый Гусев развлекал нас пристойными анекдотами, а к Лере я успела привыкнуть и привязаться.
В Караульном нас дожидались друг Коля и друг Костя, Тамара с натруженными руками, два матроса в задубелых бушлатах и длинных рыбацких сапогах. Три недели я просидела в музейной келье, а жизнь, оказывается, шла, и какая — моторка режет волну, брызги холодным веером; и вот уже остров — зеленый, нетронутый; матросы расстилают на траве маты, Тамара с Лерой раскладывают провизию, друг Коля варит уху. Пахнет ветром, перцем и жареной рыбой.
— Еще вчера здэсь фазана выдэл, — говорит мне дагестанец Костя, трогая за плечо. — Мы на моторке шли, цапля в камыше стояла.
— Да, — кивнула я, хотя ничего не видела.
Все прекрасно: Лера пьет с Гусевым на брудершафт, а я хлебаю пахучую уху с золотыми монетками жира; Тамара рассказывает, что муж ее бросил и давно уж помер от пьянки, но ничего, она приспособилась без мужика; друг Коля подкладывает в мою тарелку икру, ее так много, что она теряет всякую ценность; глаза у Коли синие, с поволокой, и чем больше он пьет, тем синее они становятся… Но почему вдруг такой тоской повеяло из дали, зеленой, зовущей?! На секунду сверкнуло и исчезло — человек богатый и знатный, оставил оазис и ушел в пустыню, для кротости набросив на себя власяницу. Желания мои, толком не родившись, стали противны.
— Будет дождь, — заметила я, пристально глядя в наглые глаза дагестанца Кости.
— Как дождь? — удивился он. — Э, — закричал Костя, вскакивая, — собирайсь!
Темный, кутающийся в клубы туч крокодил полз по небу. У горизонта на землю пролились толстые световые лучи. Замолчали птицы, и вода в реке казалась совершенно черной.
Самолет у нас был в три, а номер попросили освободить к двенадцати. Лера слегка похлюпывала носом после вчерашнего потопа. Мы вынесли вещи на пристань, опустились на скамейку. Катера в этом году не ходили — не было горючего, речной вокзал был пуст. Кавказец напротив гостиницы жарил шашлыки на продажу, и сколько я помню, никто у него их не покупал.
Мы поговорили с Лерой о Москве, о свитке, о том, как лечить насморк, и во сколько за нами приедет Гусев. Сумки у нас распухли и пахли селедкой.
Подошла цыганка, высокая, осанистая, глаза у нее азартно горели в предвкушении легкой добычи. Тряхнула юбками, фальшиво зачастила:
— Милые, красавицы, погадаю вам, прошлое-будущее расскажу, интерес укажу!
— У нас денег нет, — честно предупредила Лера.
— Эх, кудрявая, много кавалеров, да все неверные, хочешь приворожу? А ты, рисковая, — угрожающе повернулась она ко мне, — думаешь, твоей жизни никто не знает? Что молчишь?
— Правда, ничего нет, — сказала я и вывернула брючные карманы.
В Домодедове мы с Лерой расстались — сразу подвернулся ее автобус. Я растроганно помахала ей, ловя себя на мысли, что стала благовоспитанной как Гусев.
Оставшись одна, я первым делом бросилась к телефону. Номер не отвечал. «Ладно, — сказала я. — Ладно».
Автобус шел по МКАД, жаркий, как раскаленный сейф. И я думала: «Господи, надо было лететь на самолете и не разбиться, мучиться переводами, давить искушения, просыпаться под карканье ворон, спорить с Гусевым о политике, а с Лерой о феминизме; надо было просто выжить эти три недели, разворачивая свиток по сантиметру, и все для чего?! Чтобы, глядя в его веселые глаза, ответно улыбнуться и сказать: „Все хорошо“.
Преподавателя Воробьеву студенты называли между собой Вороной. Конечно, не все и не всегда, а только наиболее дерзкие в минуты раздражения; и то, разумеется, негромко и не в глаза, а шепотом, между собой.
Вероника Александровна и сама была недовольна своей внешностью и сильно по этому поводу переживала. Но что сделаешь — человек не властен над природой, и особенно она грустила по утрам, собираясь на работу. Мама, Флора Егоровна, по обыкновению, в это время уже бодрствовала и не уставала советовать: «Эта блузка тебе не к лицу», «Жилет сюда не пойдет», «Колготки лучше взять телесного цвета, а не черного» и так далее. Почему бы Флоре Егоровне не подремать в такую рань? — досадливо думала преподаватель Воробьева. Ладно, ей нельзя расслабляться — работа, наука, студенты, но чего же, спрашивается, Флоре Егоровне не поспать?! К чему эти, устаревшие лет на двадцать хлопоты?!
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Уже и больные замуж повыходили - Лидия Сычева», после закрытия браузера.