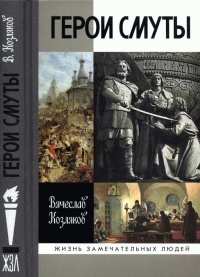Читать книгу "Бремя власти - Дмитрий Балашов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– А ты? – вопросил и усмехается, и вот сейчас уйдет, растает ли, а рук не поднять! И в теле во всем такая истома молодая, давняя, так просит: обними, согрей! А после и поняла – она-то уж не та, не прежняя, и заплакала, а он смотрит и смеется, и смеется, и весь в инее, уже и белым-бело все вокруг – не то снег, не то вишенье, не то яблоневый белый цвет!
Так вот и проснулась – в слезах. А девки пришли одевать, казать сряду. Немо дала себя умыть, одеть и, уже оставшись одна (попросила сенных девушек выйти на мал час), поняла: не сможет! Ничего не сможет! И пусть будет проклят брат Иван и все его дела прехитрые с Москвою и московским князем! И пущай, коли хочет так, нагую, за косы, выводит ее на позор! А сама – нет!
Клавдия, обеспамятев, срывала с себя одежды, швыряя и шваркая тяжелые переливчатые атласы, бархаты, парчу и шелка. И когда брат Иван, тихонько тронув рукоять дверей, пролез было в покой, склонив голову под притолокой, сказать, что пора, то, едва возвел очеса, его как шибануло ослопом: сестра стояла нагая, в одном янтарном ожерелье и повойнике, нагая и тяжкая, широкая, с опущенными тугими грудями, со сведенными в гневе татарским излучьем бровями, и смотрела ненавистно и властно, словно даже гордясь стыдною своей наготой. У Ивана мягко ослабли ноги, и он привалился к притолоке, не разумея, что сказать, содеять…
– Ну, что ж! – звонко крикнула сестра. – Бери, вона! За косы бери! Выводи! Ну! Убийце мово… батюшкову… Ну! – И рванула повойник, рассыпав змеями посыпавшиеся косы. – Ну, чего оробел?! Веди!
Иван тут только, когда сестра, белая и гневная, грудями вперед, темнея каштанового отлива шерстью под мышками и в межножье, пошла на него, опомнился, вывалился наружу, с треском захлопнув за собою тяжкую дверь покоя, за которой глухо взмыл крик и рыданья Клавдии, и, слепо, тупо глянув на подбежавших служанок, вымолвил:
– Воды! С госпожой плохо… тамо… – И, махнув рукой, не оборачиваясь, пошел вон.
Надо было сказать Родиону, гостям. Отказать… Повиниться али соврать чего. Иван, однако, понимал, что ничего не может, только так вот сидеть и ждать неизвестно чего. Его позвали. Он вышел, низил глаза, улыбался. Сестра задерживалась уже до неприличия, уже и Родион начал хмуреть и каменеть ликом, и гости перешептывались, отирая платами лица. В набитом покое было, хоть и при отворенных оконцах, не продохнуть. А Иван все не мог сказать – отказать ли – и все ждал, чтобы эта стыдная безлепица как-то совершилась без него и помимо него.
И тут, уже когда он, прикрыв глаза, гадал, скоро ли негромкий ропот гостей перейдет в открытую брань, послышалось:
– Ведут!
Ну! Иван замер, не хотя глядеть. Почудилось, что Клавдия так и выйдет к гостям нагая, и тогда… тогда… «Свечи тушить скорей!» – нелепо и тупо подумал он. Но ропот стих. Поднялся снова… Иван поглядел опасливо.
Клавдия стояла, опираясь на двух вывожальниц, с огромными, как темные озера, глазами, бледная до синевы, ни в губах крови, в голубом атласном саяне и жаркой россыпи серебра, жемчугов и янтарей на груди, в ушах и надо лбом. Стояла и была красива так, что и сам Иван замер и побледнел, и Родион дрогнул усом, чуть растерянно склонясь в поклоне перед своею будущей женой.
«Упадет!» – подумал опять Иван, покрываясь то холодом, то потом. Но Клавдия не упала. Склонила медленно голову, прекрасная и почти неживая, проплыла по покою, приняла поднос с чарками и подала Родиону. И он взял, и вот теперь бы ей уронить поднос, но вывожальницы подхватили (за тем и следили!), бережно приняли из ослабевших невестиных рук.
И еще хватило сил у нее так же медленно, царственно, выйти из покоя. А дальше уже не помнила, довели, донесли ли, и долго оттирали уксусом виски, приводя в чувство, там, у себя, в задних горницах.
И только уже осталось пережить все: и пиры, и венчанье, и поезд – и после крикнуть тому, седоусому, в лицо: «Ну, что ж ты! Бери!», чтобы как гулящую бабу последнюю, как суку… И чтобы выть потом, стиснув зубы, или грызть руки себе, или… Да что там! Может, и ничего. Только молчаливые теплые слезы потом, как весенний дождь. Может, и ничего… Может, и всяко! Да уж не увидит никто и не зазрит никто…
А только после родится у нее сын, и будет назван Иваном, белый и пухленький, прозванный потому смолоду Квашонкой, и станет он боярин княжой, Иван Родионович Квашня, родоначальник большого боярского рода, и проживет, и наживет детей, и, уже когда отойдут в лучший мир его матерь с отцом, а Иван Акинфич уже давно откупит у Родиона свою переяславскую вотчину и тоже умрет и много-много чего еще произойдет и свершится на Руси, – прославит он имя свое во главе Коломенского полка, на поле Куликовом, на реке Непрядве, у Дона, в тяжелом бою с Ордой.
От тяжких ударов металла по камню закладывало уши. Едкая белая пыль покрывала тесовые мостовины, ограды, бревенчатые стены теремов, даже шатры и кровли городень. В белой пыли, как покойники, выныривали лошади; скалясь, напружив переплетенные мышцами ноги, круто сгибая могучие шеи, тянули скрипучие, оседающие в осях волокуши с глыбами белого камения. Люди в лаптях и рванье, в домодельном сукне и посконине, в поршнях и кожаных передниках, подвязав, по обычаю мастеров, волосы кручеными гайтанами, в жаре, в грязи и в поту, в шуме и крике, равно посеребренные белой каменной пылью, тьмочисленно шевелились повсюду: и под стенами, и на стенах, и вокруг возов, и у высоких костров сложенного камения, и там, где резкими всплесками, яро и часто, взлетала земля из-под лопат, – еще сводили церкву Ивана Лествичника, и уже начинали другую, во имя святого Петра, его честных вериг. Великий князь торопил. Обе церкви велено было скласть и свершить до осени.
Федор Бяконт, морщась и задыхаясь – годы уже круто брали свое, – перелезал через кучи бревен, загородивших дорогу; кряхтя, опираясь на плечи слуг, приостанавливался, дабы отереть пот со лба: с безоблачного неба на Кремник щедро лилось расплавленное золото древнего Ярилы, солнцебога далеких языческих предков.
– Круто забрал Иван Данилыч, круто! – проговорил, отдуваясь, Бяконт, пряча мокрый, весь в каменной пыли, красный плат, и уже намерился двигаться дале, как узрел в стороне одинокого, в простом платье, густоволосого и тоже усеребренного пылью и недвижно стоящего горожанина. Вгляделся, узнал – ахнул. Подплыл, разведя руки поврозь. (К старости стал тучнеть неподобно и ходил уже вразвалку, колеблясь всем рыхлым телом.) Стащил суконную шапку с седой головы:
– День добрый, княже!
Калита дернулся, глянул нетерпеливо, прихмуря было чело, – узнав Бяконта, омягчел ликом, кивнул старику, спросил, приподымая голос (так оглушительно звенело и стонало под молотами каменосечцев, что впору было кричать на ухо друг другу):
– Успеют ли к Ильину своды свести?!
– Должны поспеть, князь-батюшка! – прокричал в ответ, с отдышкою, Бяконт. – Народу ить, что черна ворона! – И, решась, (слуги замерли в отдалении, тоже признав великого князя) попенял; – Неподобно одному-то, княже, без догляду!
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Бремя власти - Дмитрий Балашов», после закрытия браузера.