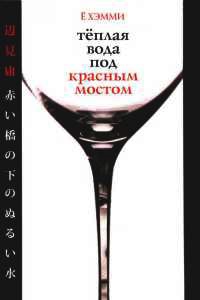Читать книгу "Такая история - Алессандро Барикко"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Трудно в это поверить, — рассказал мне доктор А., ротный хирург, — но так представляли себе стратегию высокие чины в штабах. Идиотская бойня была тактикой. Сознательной, четкой, продуманной. Доктор А., ротный хирург, провоевал всю войну и после этого перестал думать. Раньше он много думал, до безумия много, — так он отгонял от себя страх, и ему нравилось изучать войну, как энтомолог изучал бы муравейник. Важно понять — доктор мог объяснить мне все, — что за жестокостью ошибочных приказов скрывалась не столько характерная для войны склонность к жестокости, сколько типично армейская медлительность в оценке реального положения вещей. Представления главных штабистов о войне основывались на традиции, восходившей еще к Наполеону, и им не хватало ума понять, почему точное следование правилам, проверенным в условиях других войн, приводило к таким трагическим и внешне случайным последствиям. Они, казалось, подозревали какой-то необъяснимый сбой в системе причинно-следственных связей, и поэтому первые три года войны упорно повторяли одни и те же действия, веря, что рано или поздно реальность снова примет должные формы. Им и в голову не приходило, что реальность просто-напросто изменилась.
Особенно прочно — помог мне понять доктор А., ротный хирург, — в их умах засела идея, что атака — это основа боя, единственное в конечном счете приложение умственных усилий, поддерживающих одновременно дух и боеспособность войск; оборона считалась у них делом второстепенным, для которого никакая армия не предназначена.
Они продолжали так думать даже после того, как оборона заявила о себе как об искусстве прямо на поле сражений, доказав возможность интуитивно находить новые формы боя. В то время как наступление велось по образцам прошлого века, инстинкт самосохранения помог открыть новые возможности защиты. Речь шла не просто о действенном ответном ходе, но и об эффективной модификации правил и даже места военной игры. Иными словами, оказалось, что наступательные маневры слепо копируют приемы, приносившие успех в игре, которой больше не существует. Если вы хотите выявить суть, — сказал мне доктор А., ротный хирург, — подумайте о том, что сохранилось усилиями коллективной памяти, сумевшей с гениальной простотой синтезировать своеобразную святыню той войны: окоп. Идея, изменившая все. Идея — это он особо выделил — инстинктивная и простая. Первыми ее применили немецкие пехотинцы, которые стали прятаться в глубоких воронках, образованных снарядами французских гаубиц: там скорее, чем на открытой местности, был шанс спастись. Когда они попробовали соединить две соседние воронки, выкопав между ними проход, то должны были почувствовать зарождение системы: в остроумной импровизации кто-то увидел зародыш логического решения. И люди спустились под землю, подражая насекомым, роющим причудливые километровые норы. За несколько месяцев, — тонко подметил доктор А., ротный хирург, — два краеугольных камня военной географии, крепость и открытая местность, были забыты; появился третий, совершенно новый вариант, в чем-то объединявший первые два, при этом не повторяя их. Бескрайняя паутина изрезала поверхность земли, образовав ловушку, которую атакующим не удавалось распознать. Это было похоже на систему кровеносных сосудов — я начинал понимать, — разносившую яд войны по телу мира, — невидимый, он растекался под кожей земли на тысячи километров. Наверху ничто больше не возвышалось над линией горизонта, не было ни каменных построек, устремлявшихся в небо, ни войск, для отражения атаки развернутых в геометрическом порядке, что напоминал поле, готовое к жатве. По безжизненной земле бежали в атаку пехотинцы с пустотой в глазах, — у них украли врага, растворившегося в гнилых язвах земли. Их настигала смерть, взявшаяся из ниоткуда; казалось, что она все время незримо была с людьми, но в какой-то момент внезапно обнаруживала себя взрывом, забирая их с собой. Ясное представление о бое ушло, а вместе с ним — и блеск славы, тысячелетиями венчавшей доблесть и самопожертвование. Выдуманное благородство военных действий ежедневно опровергалось отвратительным ползаньем людей, вернувшихся к жизни в чреве земли.
Именно там, внутри, созрел новый, неожиданный вид войны — ее назвали «позиционной» — и, главное, там, какя теперь понял, завершился разгром, не сразу осознанный при всей его сокрушительности и недооцененный в том, что касалось его масштабов и нравственного горизонта. Война переместилась под землю, в окопы, и это означало согласие с приговором, возвращавшим человечество к доисторической эпохе; это было равносильно признанию, что открытая местность вновь стала смертельно опасной. Стоило кому-нибудь высунуть голову из норы, в него сразу летела пуля, выпущенная невидимым снайпером, что окончательно подтверждало невозможность жизни на границе между небом и землей. Атавистический животный инстинкт, загнавший людей под землю, вызвал колоссальное сжатие жизненного пространства, своеобразное обнуление мира. На сделанных с самолета фотографиях линии фронта под Верденом видна как раз такая пустыня смерти, где единственные остатки жизни — окопы — кажутся швами на трупе после вскрытия.
Этот парадоксальный эффект, вызванный разрушениями, достигал невероятных масштабов на участке земли между передовыми линиями. Его называли «нейтральной полосой», и сомневаюсь, чтобы где-то еще в мире можно было найти более чудовищное зрелище. Тела и предметы — сама природа — лежали, донельзя неподвижные, вне времени и пространства, казалось, там сконцентрирована вся имеющаяся в наличии смерть. Непонятно, как вообще можно было смотреть без содрогания на этот фрагмент апокалипсиса, но потом ты представлял себе, как день за днем, месяц за месяцем, год за годом здесь просыпались миллионы людей, — и тогда начинал понимать их чувства, неописуемый ужас, клещами сжимавший их в каждую секунду войны так, что уже не хватало сил терпеть, и несчастным ничего не оставалось, кроме как признать индивидуальную смерть, мелкую смерть человека, их смерть, — она воспринималась как побочная катастрофа, почти естественный ход событий, ведь все они были уже давно поглощены смертью, целую вечность дышали ею, и в конечном счете были заражены, прежде чем она обрушилась на них, — вот к какой мысли пришел Последний на войне; он понимал, что в любом другом месте смерть — случайность, тогда как здесь она становилась болезнью, и казалось невероятным излечиться от нее. Мы вернемся отсюда живыми, но навсегда останемся мертвецами, говорил он. А Кабирия давал ему подзатыльник, сбивая шапку, со словами: пошел отсюда, придурок, ты слишком много думаешь, но на самом деле он понимал, что имеет в виду Последний, и знал, что так и есть, знал с того дня, когда погиб малыш, не потому, что он погиб, а из-за того, как это произошло, то есть из-за того, что этому предшествовало. Его ранило осколком гранаты, когда они бежали назад, к окопу после очередной неудавшейся атаки. Они были уже почти у бруствера, и в это время рядом прогремел взрыв; а когда пыль немного осела, то на земле они увидели малыша: он лежал с неестественно повернутой головой и кричал. Кабирия остановился, несмотря на царивший вокруг ад, и бросился к нему; о том, чтобы оставить малыша там — не важно, живого или мертвого, — не могло быть и речи. И он вернулся. Схватил кричащего малыша за ноги и потащил к окопу, даже не пытаясь понять, куда попал осколок. До окопа оставалось метров двадцать. Может, чуть больше. Кабирия волок товарища по земле. Потом что-то опять взорвалось поблизости, подкинув Кабирию в воздух и отбросив в сторону, как тряпичную куклу. Его охватил ужас, но когда он понял, что остался цел, то забыл обо всем, думая лишь, как бы поскорее убраться оттуда, добежать до бруствера, перепрыгнуть его и почувствовать себя в безопасности. Только потом, уже в укрытии, он вспомнил про малыша и, хоть это было рискованно, высунулся из-за бруствера, чтобы посмотреть, где тот, и почти сразу увидел его. Малыш полусидел, прислонившись к одному из кольев проволочного заграждения: шея была все так же вывернута, и он продолжал кричать, настолько громко, что его было слышно даже сквозь грохот и крики других раненых, — Кабирии казалось, будто он слышит только этот крик, крик малыша. От него разрывалось сердце. Он надеялся, что малыша смогут забрать санитары, но австрийцы, озверев, продолжали палить из пушек и пулеметов; санитары остались в окопах — все равно, мол, эти сволочи австрийцы не дадут им добраться до раненых. Когда Кабирия в тюрьме, где мне удалось отыскать его после четырех лет поисков, рассказывал, как было дело, то остановился именно на этом месте, объяснив, что дальше говорить не хочет. Каждый день я терпеливо возвращался туда, и так пятьдесят два раза; только на пятьдесят третий день Кабирия согласился продолжить и рассказал, что после этого ему важно было найти Последнего, чтобы узнать, выжил ли тот, и чтобы не оставаться наедине с мыслями о малыше. Кругом царил хаос. Кабирия нашел друга не сразу; уже темнело. Он объяснил мне, что Последний никогда не разговаривал после боя — сидел тихо в углу и молчал часами, даже слушать никого не хотел, всем своим видом показывая, что мысли его где-то далеко. Было уже совсем темно, когда удалось рассказать ему про малыша. Они вернулись к тому месту, где Кабирия спрыгнул в окоп. Прислушались. Малыш, до которого так и не добрались санитары, был еще жив: он кричал от боли, уже не так громко, но кричал — прерывисто, через равные промежутки времени, словно по обязанности. Это длилось всю ночь. Еще не рассвело, когда австрийцы снова начали артиллерийский обстрел; возможно, на этот раз они готовились к атаке и поступил приказ быть наготове. У твоего друга нет шансов, бросил Кабирии один из старых солдат, намекая на то, что парня лучше пристрелить, чтобы не мучился сам и не мучил других. Кабирия посмотрел на Последнего, и Последний сказал: Я не смогу. Сказал уверенно. Кабирия взял винтовку и занял удобную позицию, почти не высовываясь. Прицелился и выстрелил. Один раз, потом еще дважды. И опустил винтовку. Не могу, сказал он. И заплакал. Пришлось позвать одного из снайперов, родом из Абруццо, который гасил пулей сигареты австрийцев, когда был в ударе. Случалось, что его просили о подобных услугах, и он молча брался за винтовку. Тариф — две пачки табака и талон на посещение борделя. Всего один выстрел — и малыш перестал кричать. Раз и навсегда. Одним из достоинств малыша было умение играть на аккордеоне, и самое потрясающее — его лицо во время игры. Никто не знал об этих его способностях, пока однажды, проходя через какую-то деревню в окрестностях Чивидале, они не услышали доносившиеся из открытого окна звуки аккордеона. Малыш покинул строй и вбежал в дом. Вскоре он выглянул в окно и крикнул, чтобы все остановились. Малыш, какого черта? Вместо ответа он начал играть. Нужно было видеть, как он это делал своими огромными пальцами. Но самое удивительное — каким становилось его лицо во время игры. Куда он смотрел. Никогда его взгляд не был таким, обычно в глазах застывало тупое выражение, как у человека, которому долго задавали один и тот же вопрос. Ответом был аккордеон. Тогда его глаза были открыты и всматривались в даль. А сейчас он сидел с закрытыми глазами, привалившись к одному из кольев проволочного заграждения: в голове дырка от выпущенной снайпером из Абруццо пули, она с хирургической точностью прошла навылет. Кабирия подумал обо всех аккордеонах, которые, как это ни печально, уже никогда не оживут в руках малыша. И еще обо всех людях, которые не будут танцевать, о слезах, которые не скатятся по щеке, о ногах, которые не будут отбивать ритм. Невозможно представить себе, сколько всего умирает со смертью живого существа. Даже собаки. Но в первую очередь это относится к человеку. Потом Последний достал осколок зеркала — он носил его завернутым в тряпочку, — ловко прикрепил к дулу винтовки и поднял над бруствером, чтобы, не рискуя при этом головой, увидеть из окопа нейтральную полосу и на нейтральной полосе — тело малыша, а потом — его лицо. Этого не стоило делать, он должен был просто забыть, но как забудешь, если тело всего-то в нескольких шагах от них? Прощай, малыш, мне очень жаль. Прощай, малыш, так будет лучше, пойми. Он заметил, что кожа уже совсем по-другому обтягивает кости черепа, а такого выражения, как сейчас, он никогда у малыша не видел. Это было не лицо спящего, нет, казалось, на нем проступили признаки старости, как если бы малыш умер молодым, постарев задолго до этого, странным образом прожив жизнь наоборот. А что ждет их? Австрийцы не давали им высунуть носа из окопов двенадцать дней и двенадцать ночей, прекращая обстрел на час или два, а потом начинали снова. В воздухе постоянно висело ожидание атаки, поэтому о сне не было и речи; австрийцы трепали им нервы своим огнем целыми днями, и от этого мысли о смерти малыша превращались в настоящий кошмар. Его невозможно было вытащить оттуда, где теперь долгой смертью умирала его плоть. Сначала все распухло, потом за приоткрытыми губами стали видны зубы, маленькие и белые, постепенно исчезли щеки. На седьмой день снаряд упал рядом с трупом, разорвав его надвое. Голову, вместе с частью торса, бросило в сторону окопа, повернув, будто нарочно, так, что глаза мертвеца уставились прямо на них — на тех, кто были его товарищами. На солнце тело разлагалось быстро. Оголялись челюстные кости, невидящие глаза вваливались, втягивая за собой в глазницы обрывки кожной ткани. Лицо малыша еще можно было узнать: казалось, какой-то зверь начал обгладывать его, но потом, наверно, отвлекся и не довел дело до конца. Это была настоящая пытка. И однажды Кабирия закричал — всего раз, будто клинком полоснул, — вскочил на бруствер, плюя на австрийцев, и бросил гранату в малыша. Бросок оказался точным. В воздух взметнулся столб земли, разбросав далеко вокруг клочки того, что осталось от малыша. До окопа они тоже долетели: приходилось брать их руками — именно руками — и отправлять обратно на нейтральную полосу. Теперь Кабирии стало ясно, что имел в виду Последний, говоря о смерти и о том, что они уже мертвы, что останутся такими навсегда. Скорее всего, Кабирия не верил, что все будет именно так, но понял мысль Последнего. Они прошли через это, и ничего уже нельзя изменить. Спрятали ужас на дне души, как контрабандисты прячут свой товар в чемодане с двойным дном. Породнились со смертью.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Такая история - Алессандро Барикко», после закрытия браузера.